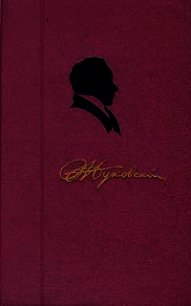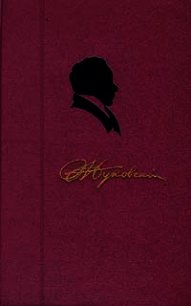Певец во стане русских воинов - Жуковский Василий Андреевич (мир книг txt) 📗
Пожар, начавшийся в 8-м часу вечера, продолжался во всей своей силе до восхождения солнца, и только в эту минуту государь император изволил возвратиться к своему семейству.
Так разрушился наш Зимний дворец, великолепный представитель последних славных времен России. Все, что может быть снова сооружено, погибло с главным зданием; но сокровища Эрмитажа, которые в течение стольких лет были собираемы государями русскими и коих утрату ничто бы не заменило, все без изъятия спасены. Утешением в сем печальном событии может послужить то, что никто из многочисленных жителей дворца не погиб и что весьма многие из них спасли свое достояние.
Но сие величественное царское жилище, ныне представляющее одни обгорелые развалины, скоро возобновится в новом блеске. Опять в великий день Светлого праздника будем, по старому обычаю, собираться на поздравление царя в той великолепной дворцовой церкви. Опять будем видеть русского царя, встречающего новый год в светлых чертогах своих вместе с своим народом. Опять, перед спасенным изображением Александра, будем воспоминать времена великой русской славы, петь многолетие Царю царствующему, возглашать вечную память Благословенному и славить его войско, некогда столь храбро отстоявшее Россию. Наконец опять посреди этих возобновленных палат императорских, увидим доброго отца народа веселым семьянином, окруженного мирным домашним счастием, которое да продлит Бог для блага России.
И царь и его Россия с благоговением приняли новое испытание, ниспосланное им всемогущим Промыслом, и это испытание, с одной стороны, даровало случай царю явить пред лицом народа своего покорность Божией власти; с другой – народу с новою силою выразить любовь свою к царю, и таким образом узами скорби еще сильнее скрепился союз между державным отцом и верными детьми его.
О молитве Письмо к Н. В. Гоголю
Я обещал присылать тебе замечания на твою книгу – и остался до сих пор при одном обещании; с того времени прошло почти год. Приступая наконец к исполнению обещанного, повторяю сказанное мною тогда, что я намерен писать не критику на твою книгу, а только то, что будет мне приходить случайно в мысли по поводу твоих мыслей; иногда, само собою разумеется, придется сказать слова два pro или contra о содержании самой книги, сделать критическую придирку и проч.; но на все это нет у меня никакого плана – что напишется, как напишется, тут весь и план. Притом же слишком взыскательная критика относительно твоей книги совсем неуместна: ты напечатал отрывки из писем (которых не имел намерения печатать). Характер писем есть свобода как в ходе мыслей, так и в их выражении; кто выдает письма в печать, тот необходимо должен сохранить им этот характер свободной неприготовленности; здесь сама небрежность имеет прелесть: она есть даже достоинство. В письмах выражаются не одни мысли, но и вся личность писателя: его голос, его жесты, его физиогномия; к слогу писем особенно относится то, что говорит Бюффон вообще о слоге: «Le style c’est l’homme» (« слог – человек »). В письме каждая мысль наша, легко набросанная на бумагу, есть живое новорожденное дитя; переправлять с строгою отчетливостию ее выражение для печати, значит, натягивать морщины старости на свежее лицо младенца.
Правда, когда няня выносит ребенка из детской в гостиную, она его прежде умоет и оденет, но вся одежда его должна быть детская, а не парик отца и не чепец матери. И печатая письма, надобно, конечно, и приумыть и приодеть слог, но так, чтобы младенчество не перерядилось в старость.
Кстати, о слоге и о придирчивой критике. Живучи за границею и не получая наших журналов, я не мог знать, что было в них напечатано о твоей книге – читал одну прекрасную статью князя Вяземского, в которой, не осыпая тебя приторными похвалами, но и не скрывая слабых сторон твоих, он так мужественно, так трогательно защищает и твое произведение и твой характер против нападков несправедливости. Но чтение этой статьи заставило меня заключить, что тебе крепко досталось от наших аристархов; и я, признаться, попенял самому себе за то, что в одном случае не предохранил тебя от их ударов, тем более чувствительных, что они поделом тебе достались: именно виню себя в том, что не присоветовал тебе уничтожить твое завещание и многое переправить в твоем предисловии. Когда ты мне читал и то и другое – имея тебя самого перед глазами, я был занят твоею личностью, и зная, как все мною слышанное было искренним выражением тебя самого, зная, как ты далек от всякого самохвальства, от всякого смешного самобоготворения, я находил привлекательным то, что после, когда (вместо самого автора) явилась перед мною мертвая печатная книга и воображению моему представилась наша читающая публика, сидящая чином на креслах и стульях кругом чтеца, и в арьергарде фаланга журналистов, вооруженных дреколием порицания и крючьями придирки, то многое, мне прежде показавшееся столь привлекательно-оригинальным, представилось странным и неприличным. За то и твой смиренный вызов: простить тебе твои грехи вольные и невольные и с тобою христиански примириться возбудил в твоих пишущих собратиях одну нехристианскую насмешку и весьма языческое злоязычие. Да и сам я, вспомнив о твоем предисловии, намерен пристать на минуту к твоим порицателям. Это послужит тебе доказательством, что я пишу, как перо велит: взяв его в руки, я еще не знал, какое будет содержание письма моего.
Одно место в заключении твоего предисловия меня останавливает; в нем есть или неточность выражения, или самая выраженная мысль фальшива. Ты просишь, чтобы за тебя, идущего в путь далекий, в отечестве молились, просишь молитвы как от тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и от тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною , – другими словами: ты просишь от них невозможного, того, что им вовсе чуждо, чего они ни иметь, ни дать не могут, чего даже от них и просить не должно потому, что в том виде, в каком бы они его дали, если бы дать могли, оно не может быть никем желаемо и не принесет желающему никакой пользы. Может ли быть молитва без веры в молитву? И для кого может быть действительна подобная молитва, если только здесь у места имя молитвы? Что же хотел ты сказать? Не понимаю. Молитва не может существовать без молящегося; она тогда только получает жизнь, когда слова, ее выражающие, выражают в то же время и душу их произносящего: тогда совершается таинство смирения перед Богом в душе человеческой, таинство для нас неисповедимое, таинство, силою которого Всемогущий, всякое добро творящий по одной своей мудрости и благости, так сказать, покоряется бедному слову человека. В чем же это таинство, в чем его сила? В вере, приводящей в движение горы; в смирении, предающем нас безъизъятно в сильную руку Бога. Такой молитвы Он Сам от нас требует; такая молитва заключается в неисчерпаемой глубине тех слов, которые Сам Он научил произносить нас, человечески дав их человеку, дабы он мог непосредственно соединиться с сердцем Бога. Но и эти живые слова, из уст Божиих нам исшедшие, не будут иметь никакой живительной силы, если не будут словами смиренно верующего сердца.
Бог требует от нас молитвы. На что Ему наша молитва? спросит умствователь. Нужно ли Его преклонять на милость, когда Он по существу своему есть милость верховная? Нужно ли и Ему Самому устанавливать между собою и человеком обряд моления с словесною формою молитвы? Нужно ли говорить человеку: ты прежде потребуй, тогда Я дам , – когда Ему все, для человека необходимое, наперед известно и когда все благие даяния сами собою из Него истекают? В ответ на сии вопросы умствователя христианин, вместо всякого объяснения, укажет молча на Евангелие, где сказано: молитесь . А что сказано в Евангелии, то есть истина, без согласия ума доказанная верою. Но и ум согласен будет с словами евангельскими, если наперед постановить, что ум не из своих заключений извлекает убеждение в бытии Божием, а напротив, все свои выводы опирает на главной, коренной, центральной идее, принятой за аксиому, что Бог существует – не метафизический Бог пантеизма, безжизненная идея, но Бог живой, тройственный, лицо самобытное, Бог, во всякое мгновение вечного своего бытия, на всяком пункте неизмеримости, весь присутственный, постоянно, непрерывно, сознательно действующий, как на каждую пылинку создания своего отдельно , так и на все свое создание в совокупности . При таком признании бытия Божия, которое есть в то же время и откровение, все для нашей ограниченности несогласимые противоречия исчезают; ум останавливается перед указанными ему границами, признает неотрицаемость истин, одна другую исключающих, и смиренно передает вере их согласование, силе его неподвластное.