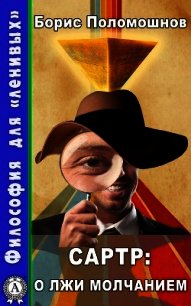Сказки - Кригер Борис (читаем книги онлайн без регистрации txt) 📗
Медвежка был всем – космонавтом, укротителем змей, гладиатором и суперменом в летающей суперподлодке. И всё обрывалось всегда прелестью холоднящих простыней, облизывающих плюшевую шкурку, и пиратским дрейфующим кораблём до утра.
Строил мишка ещё пластилиновые города и всегда их разрушал, при том упиваясь больше, чем от их строительства. А была кругом тишина.
Но волчары сорвались с цепей. Запах плюшевого мяска будоражил их истовые ноздри. «Он нужен нам позарез!» – вдруг взвопили они. А медвежка источал определённый аромат, столь сладенький волчьему сердцу. Волчары дробили когтями асфальт, сочились проулками, сваливались с крыш. «Где пушистый медвежонок? Ну его на войну! Ой, сваляем ему пушок!» И лязгали волчары автоматом, и пили газированную воду.
Медвежка слез со стула и спрятался под кровать. На столе остался недорушенный пластилиновый город. Явно чувствовалось, что в нём шла большая война. Её развязал медвежка. Под кроватью было темно, и он боялся темноты, потому что это самая настоящая слепота, а в ней каждого можно обидеть.
– Я – медвежка плюшевый, лапистый, – бормотал медвежка. – Отчего же жаждут шкурки моей однорожие волчары?
В уюте подкроватья слабо верилось во вселенский заговор против медведьки, но он продолжал:
– Ну, выньте мне зубки, оторвите лапки! Осладостраститесь разок, и пусто? Ну, давите жёлтых цыплят! Ведь суть пушистая у них такая ж, но голова отяжеляется исключительно клювом.
– А нам плевать, медвежонок ты или цыплёнок! – глухо отозвались волчары из подвала. – И ты у нас ещё завоешь черепахой!
Медвежка совсем заплакал и сел на попку. Никогда он ещё не был пластилиновым, которого хотят измять. Мрак под кроватью и вовсе отяжелел, медвежка забылся, и капельки лимонного сока из глазок заволокли собой всё. Было ясно, что теперь должно что-то случиться, потому что так плохо долго быть не может.
И тут, расстилая перед собой неуверенные лапки, вошло солнышко, розовое, тёплое, с помидорными губками и тесными, манящими лучами.
– Пушистый медведь, – сказало солнышко, – тебе ведь нужен розовый свет? Тебе ведь нужно лесное тепло, шишечная тишина?
– Бе! – проронил носом медвежка. Он вдруг стал так счастлив и удивлён, что даже ничего не испугался.
– Мне так нужна твоя пушистость и лапистость, – загрустило солнышко и уселось на пыльном подкроватном полу, отложив лучики в сторону.
– Тебе нужна пушистость, – забормотал медведь. – Это то, что я прячу от мамищ, папищ и волчар в коробочке из-под индийского чая, которую подарила мне бабушка?
– А что, твоя бабушка была индуска? – удивилось солнышко.
– Наверное, ведь все иногда бывают индусами, – сказал с грустью медведь и полез из-под кровати на полку, где стояла пушистость.
– А тебе её давать навсегда или только нанемножко? – спросил медведь.
– А ты как хочешь? – улыбнулось солнышко.
– Если мы будем пользоваться ею вместе, то тогда навсегда, – прагматизировал медведь.
– А что твоя пушистость умеет? – поинтересовалось солнышко, серьёзно заглядывая в коробку, откуда медвежка доставал всякую всячину.
– Моя пушистость умеет всё, что положено, – заявил медведь и стал раскладывать перед солнышком обглоданные утиные косточки в форме китайских палочек для съедания риса, сломанных солдатиков, клок шерсти любимого кота и ссохшуюся грейпфрутовую дольку.
– Ой, мне нужно идти, – заторопилось солнышко и тихонько выскользнуло из дома. – Ведь я совсем не твоё, хоть и ничьё.
– Как! – взвизгнул медведь, но солнышка уже не было. Медведь сильно загрустил, вылез из-под кровати и, сняв с гвоздя треснутую скрипку, отправился на крышу, забыв даже про волчар.
Медведей много не бывает.
Медвежка сидел на крыше засохшего дома и наигрывал на скрипке, прислонив завиток к окирпиченной трубе, потому что на весу он всё время мешал смычку, который мог бы рвать нутро человеческое в клочья, душу вынимать и колесить по ней, как на извозчике. Смычок так не делал, потому как сам не хотел, да и медвежка не настаивал. Музыка выходила ершистой и накликала беду, а беды – животные стадные.
Задолго до соло на крыше медвежка бредил звёздами. Кометы и формулы он не любил. А вот звёзды из пыльных нечитанных книжек с полки обещали крупные расстояния и своей висячестью в пространстве, одновременной огромностью и мелочностью стали не чем иным, как нашим отражением в полировке фортепьяно.
Но вдруг чёрная жирная проглота навалилась с небес и стала всасывать обрюзгшей губой антенны с домами. Дождь – слюна. Медвежке стоило лишь подумать, нет, даже просто подразуметь: «А не бросить ли всё: мамищ, папищ, кошёлки?!», и туча учуяла слабость пушистой пылинки и втянула медвежку в головосшибательно несущееся зарево.
Вот тебе за оторванную жёлтому мишке голову, за разрушаемые всласть города! Ну и что, что пластилин? В любых городах кто-то живёт.
В центрах смерчей всегда тишина. Медвежка, влетевший внутрь комком, уткнулся в пух одинокого милого облачка, обитателя спятивших вихрей.
К нему подошёл маленький народ.
– Ты – народ? – спросил медвежка, оглядывая хлипкое существо с висячим языком и шершавым крылышком.
– Конечно! – сказал народ.
– А почему тогда тебя так немного? – удивился медведь. – И если ты – не весь народ, то где остальное?
– Нет, я – весь. Просто сначала мы звались – зажиточный народ. Нас было много, и мы жили долго, потому что возникли из крылышек мёртвых насекомых, а мёртвое, как водится, долго живёт. У нас было всё: дома, ванны, и даже свобода. Но чего-то всё-таки не хватало, причем не всем вместе, а каждому в отдельности чего-то не хватало.
Медвежка подбоченился на облачке и принялся слушать, потому что делать было больше нечего.
– Селились мы, – продолжал крыльчатый выродок, – в тихом месте, например, как здесь, в урагане или тайфуне каком. И не было нам забот. Только иногда хотелось очень по-простецки на кухне или там в подъезде удавить кого-нибудь или жахнуть сковородкой, или мозги все вытрясти кому-нибудь, чтоб аж самому тошно было.
Медвежка задрожал и стал зарываться поглубже в облачко, но заметив, что глаза народа чисты, уселся на место, хотя подбочениваться не стал.
– Вы что ж, садисты, терористы или пилаты какие?
– Не! – завизжал маленький народ и стал отбрыкиваться сухим крылышком, словно на него напал москит. – Мы были даже демократы! Казнь смертью у нас отсутствовала, да и вообще мы друг друга любили как следует. Но всё-таки иногда хотелось почаще кого-нибудь задушить или даже съесть.
– Съесть! – пискнул медведь.
– Да, а почему бы нет! Ведь именно медленно съев кого-нибудь живьём, и начинаешь смаковать вкус жизни.
Один великий из нас осчастливил всех. На нашем конклаве он открыл такую речь:
– Если мы все так забавно живём, если нам всем по углам достаётся по капельке жизни, когда кто-нибудь обуялый стервозностью отчищается, принося жертву себе путём разъятия другого, будем же, как гордые красноликие майя, приносить эту жертву прилюдно, ибо нет ничего справедливее делиться всем со всеми пополам.
– А кто кого будет есть? – законно парировал конклав. – Ведь съеденным никто быть не захочет. Может, завоюем чужой народ да и поочистимся на славу, коль скоро разговор об этом зашёл?
– Не!!! – сказал великий из нас, которого никто слушать не хотел, потому что стеснялись. – Почавкать чужестранцем не в кайф, ведь не от голода мы трапезничаем, а чтоб послушать, как верещит наша жертва, как в суд апеллировать грозится, как клянёт нас последним словом, как за плечи нас хватает. А ежель то чужеземец, он своим бормотанием неясным никакого проку не даст. Обучать же их языку нашему муторно, да и накладно встанет. Хоть ничего не скажешь, чужеземца вонючего задрать – большего изыску нет, коль он по-нашенски реагирует.
Зажиточный народ был большой, и каждый решил, что пока до него дело дойдёт, то и внуки его окочуриться успеют. И стал народ есться согласно установленному порядку, и счастлив был очень, и ласков.