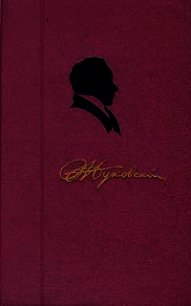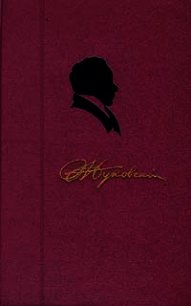Певец во стане русских воинов - Жуковский Василий Андреевич (мир книг txt) 📗
Когда, когда и Феб и дщери Мнемозины
Придут под тихий кров беседовать со мной?
При них мои часы весельем окрыленны;
Тогда постигну ход таинственных небес
И выспренних светил стези неоткровенны.
Когда ж не мой удел познанье сих чудес,
Пусть буду напоен лесов очарованьем;
Пускай пленяюся источников журчаньем,
Пусть буду воспевать их блеск и тихий ток!
Нить жизни для меня совьется не из злата;
Мой низок будет кров, постеля не богата;
Но меньше ль бедных сон и сладок и глубок?
И меньше ль он души невинной услажденье?
Ему преобращу мою пустыню в храм;
Придет ли час отбыть к неведомым брегам —
Мой век был тихий день, а смерть успокоенье.
Похороны львицы
В лесу скончалась львица.
Тотчас ко всем зверям повестка. Двор и знать
Стеклись последний долг покойнице отдать.
Усопшая царица
Лежала посреди пещеры на одре,
Покрытом кожею звериной;
В углу, на алтаре
Жгли ладан, и Потап с смиренной образиной —
Потап-мартышка, ваш знакомец, – в нос гнуся,
С запинкой, заунывным тоном,
Молитвы бормотал. Все звери, принося
Царице скорби дань, к одру с земным поклоном
По очереди шли, и каждый в лапу чмок,
Потом поклон царю, который, над женою
Как каменный сидя и дав свободный ток
Слезам, кивал лишь молча головою
На все поклонников приветствия в ответ.
Потом и вынос. Царь выл голосом, катался
От горя по земле, а двор за ним вослед
Ревел, и так ревел, что гулом возмущался
Весь дикий и обширный лес;
Еще ж свидетели с божбой нас уверяли,
Что суслик-камергер без чувств упал от слез
И что лисицу с час мартышки оттирали!
Я двор зову страной, где чудный род людей:
Печальны, веселы, приветливы, суровы;
По виду пламенны, как лед в душе своей;
Всегда на все готовы;
Что царь, то и они; народ – хамелеон,
Монарха обезьяны;
Ты скажешь, что во всех единый дух вселен;
Не люди, сущие органы:
Завел – поют, забыл завесть – молчат.
Итак, за гробом все и воют и мычат.
Не плачет лишь олень. Причина? Львица съела
Жену его и дочь. Он смерть ее считал
Отмщением небес. Короче, он молчал.
Тотчас к царю лиса-лестюха подлетела
И шепчет, что олень, бессовестная тварь,
Смеялся под рукою.
Вам скажет Соломон, каков во гневе царь!
А как был царь и лев, он гривою густою
Затряс, хвостом забил,
«Смеяться, – возопил, —
Тебе, червяк? Тебе! над их стенаньем!
Когтей не посрамлю преступника терзаньем;
К волкам его! к волкам!
Да вмиг расторгнется ругатель по частям,
Да казнь его смирит в обителях Плутона
Царицы оскорбленной тень!»
Олень,
Который не читал пророка Соломона,
Царю в ответ: «Не сетуй, государь,
Часы стенаний миновались!
Да жертву радости положим на алтарь!
Когда в печальный ход все звери собирались
И я за ними вслед бежал,
Царица пред меня в сиянье вдруг предстала;
Хоть был я ослеплен, но вмиг ее узнал.
– Олень! – святая мне сказала, —
Не плачь, я в области богов
Беседую в кругу зверей преображенных!
Утешь со мною разлученных!
Скажи царю, что там венец ему готов! —
И скрылась». – «Чудо! откровенье!» —
Воскликнул хором двор.
А царь, осклабя взор,
Сказал: «Оленю в награжденье
Даем два луга, чин и лань!»
Не правда ли, что лесть всегда приятна дань?
Марьина роща Старинное предание
Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Услад, молодой певец, приблизился к берегам Москвы-реки, на которых провел он дни своей цветущей юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая легким ветерком, покрыта была розовым сиянием запада: в зеркале их отражались с одной стороны дремучий лес и терем грозного Рогдая, окруженный высоким дубовым тыном (он был построен на крутой горе – там, где ныне видим зубчатые стены Кремля, великолепные чертоги древних русских царей, соборы с златыми главами и колокольню Иван Великий) – с другой зеленые берега, покрытые кустарником и осыпанные низкими хижинами земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух был растворен благоуханием цветущей липы: иногда во глубине леса раздавался голос соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный ветерок потрясал вершины дерев; иногда робкий кролик, испуганный шорохом, бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шел по тропинке, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная воспоминаниями, погружена была в задумчивость. Время прошедшее, время, в которое находил он себя счастливым, представилось мыслям его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? – воскликнул печальный Услад, – где ты, прежнее время? Прихожу на то же место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая роща, светлая река, зеленые берега, вы не изменились; но, счастие мое, тебя уже нет. По-прежнему благовонная липа разливает свой сладостный запах, по-прежнему звонкий соловей или пустынная иволга поют во глубине дремучего леса; а тот, кто некогда услаждался благовонием цветущей липы или, задумавшись, при гласе звонкого соловья и стоне пустынной иволги живее мечтал о своем счастии, тот уже не похож на самого себя. «Ах! не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои потускли от скорби, ланиты мои побледнели, лицо мое помрачилось унынием…» Услад приближается к берегам светлого ручья [4] , который, журча и сверкая, бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и сливался с Москвою; он увидел на крутизне горы уединенный терем грозного Рогдая. Последнее блистание вечера играло еще на тесовой кровле верхней светлицы и на острых концах высокого тына; вершины древних дубов, берез и лип, которыми покрыта была вся гора, восходящие одни над другими, мало-помалу омрачались, наконец потемнели совсем; на одном только тереме, который, подобно великану, возвышался над лесом, оставалось умирающее мерцание; наконец и оно померкло, повсюду распространился сумрак. Услад, увидя Рогдаев терем, затрепетал, остановился, долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатились ручьями из глаз его… «Ах, Мария!» – воскликнул он; вздохнул из глубины сердца, и голова его склонилась ко груди.
Молодой Услад родился на берегу Москвы-реки в бедной хижине, от честных родителей. Природа наградила его прекрасною душою, прекрасным лицом и дарованием слагать прекрасные песни. Часто, простертый на берегу светлой Москвы и смотря на ее серебряные волны, провожал он вечернюю зарю звонким своим рожком. Приятные звуки раздавались по берегам и повторяемы были отголосками сенистой рощи. Молодые сельские девушки любили слушать Услада, когда он простыми стихами прославлял весну, спокойствие земледельческих хижин, свободу поднебесных ласточек, нежность дубравных горлиц или изображал приятность маткиной-душки, которой запах сравнивал он с милою душою чадолюбивой матери. Услад был всех приятнее на посиделках; никто не умел так хорошо рассказывать страшных сказок, от которых робкие девушки трепетали и прижимались к своим матерям, а на голове молодых мужчин становились волосы дыбом; ни с кем так не любили играть в хороводы и в разные игры, как с милым, веселым, добросердечным Усладом. В селе называли его соловьем. Старушки переставали хмуриться и бранить своих дочерей, когда приходил к ним Услад; а старики в его присутствии оживлялись и чувствовали себя молодыми. Сельские девушки засматривались на Услада, который имел лицо прелестное, черные глаза, омраченные длинными ресницами, нежные, сияющие под черными густыми бровями; светло-русые волосы, которые легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу, вились вокруг открытой шеи, белой как снег, и оттеняли свежие, румяные, как молодая роза, щеки. Но чаще других и с чувством более нежным смотрела на него прекрасная Мария. Хижина ее построена была на самом том месте, где быстрый ручей сливался с прозрачною Москвою. Марии минуло пятнадцать лет; она имела доброе сердце, но была совершенный младенец: все ее веселило, все трогало и увлекало. – Она любила свою старую мать более самой себя; часто смотрела ей в глаза и говорила со слезами: «Матушка, друг мой, я готова отдать тебе свою душу». Она плакала, когда старушка была или больна, или печальна; но в то же самое время безделица могла овладеть ее вниманием: она бросалась за пестрым мотыльком или смеялась от доброго сердца, когда слышала забавное слово, замечала уродливое лицо. Мария была чувствительна: никакое нежное чувство не могло изгладиться в сердце ее, но оно могло быть забыто (правда, на короткое время) для всякого нового, даже слабейшего впечатления.