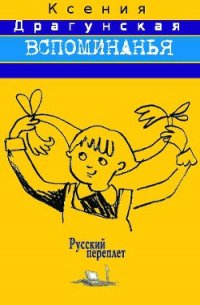Тяпкин и Лёша - Ганина Майя Анатольевна (чтение книг .txt) 📗
– Это кто? – спросил старичок и строго посмотрел на Тяпкина. – Кого ты сюда привел, Лёша?
– Я у них живу, – промямлил Лёша. – Я его в гости позвал.
– Его? – удивился старичок. – Это же девочка.
– Он не девочка, – возразил Лёша. – У него волос нет на голове. Он мальчик.
– Она девочка, – твердо сказал старичок, слез с кровати, аккуратно закрыл её коричневым одеялом и потер лицо ладошками.
– А вы водичкой разве не умываетесь, когда встаете? – заинтересованно спросил Тяпкин. Он не любил умываться.
– Нет. – Старичок усмехнулся: – Зачем? Так и сгноиться недолго. Вода – вещь ненужная.
– Меня мать заставляет умываться. Говорит всё время: «Люба, умойся, Люба, умойся!» Прямо надоело.
Тяпкин из подхалимажа представил мать в очень неприглядном свете, у него и голос даже стал брюзгливый и противный.
– У тебя лицо другое совсем, – возразил Лёша. – У тебя мягкое лицо и пахнет кожей. А у дедушки жесткое и травой пахнет. – Лёша вздохнул. – У него хорошая мать. Она мне молочка давала, и сахарку, и ещё блин.
– Блин – это очень вкусно, – сказал старичок грустным голосом.
– Блин – пища боков, – вспомнил Тяпкин.
– Говорят: пища богов, – поправил его старичок. – Я знаю. Я давно живу.
– Мама говорит: пища боков. – Тяпкин вздохнул. – Мама вечером ещё будет блины печь. Я тоже блины люблю. С вареньем.
– Я один раз ел блин, – сказал старичок. – Очень давно, когда я такой, как Лёша, был. Мне девочка одна давала. Только она красивая была девочка, у ней волосики были белые с бантиком и на штанишках кружавчики белые. И платьице белое с кружавчиками.
Старичок улыбнулся, вздохнул и сел на диван, поскрипев сухим телом по шишечным чешуйкам.
– У меня нет такого платьица, – обиженным толстым голосом сказал Тяпкин и посмотрел на выпачканные песком рукава и грудь пижамы.
– У тебя, тоже красивое платье, – вспомнил Лёша. – Такое красное, в белый горошек. Мне нравится.
– У меня волосиков нет, – грустно возразил Тяпкин.
– Я не люблю волосы, – скривился Лёша. – Ерунда какая-то! Только всякие листья сухие цепляются, иголки от елки!..
– Да, в общем… – сказал старичок и поразбирал пальцами спутанную зеленоватую бороду. – А молочка я тоже очень давно не пил.
– Лёшк! – мрачно сказал Тяпкин. – Я пойду. А то мне знаешь как мать даст!
– Пойдем… – Лёша вздохнул и погладил дедушку по худенькой коленке. – Я пойду, дедуш. Я у них буду жить теперь.
– А я как же? – спросил старичок и вдруг заплакал. – Мне без тебя скучно очень… И потом, я давно молочка не пил. Я молочка хочу.
– Ой! – вскрикнул Тяпкин и почувствовал, как у него сжалось от жалости сердце. – Дедушка, ты не плачь! Я тебе дам молочка, и Лёшке дам, и всем. Вы все приходите к нам, тут недалеко. Я вам свой блин отдам!..
Тяпкин был добрым человеком, и сердечко у него было отзывчивое. Он запыхтел и пополз задом в дырку, сказав на прощание:
– Приходи, дедуш. Я тебе больше всех дам молочка. Я тебе и сахарку дам.
– У него зубов нету, – сказал Лёша.
– Эх ты, Лёшка! Бросил старичков… – проворчал грустно Тяпкин и уполз в дырку совсем.
Скоро он выбрался на белый свет, оглядел себя и понял, что пижама пропала, лучше её запрятать где-нибудь в кустах и идти домой голышом. Так он и сделал.
5
– Ты что голышом разгуливаешь? – спросила я дочь, когда она появилась на пороге дома в туфлях на босу ногу и больше ни в чем. – И чем это жёлтым у тебя лицо вымазано?
– Так просто, – проворчал мой ребенок и пошел к умывальнику. – Мам, – заявил он, вернувшись, – я блинов хочу.
– На ужин сделаем, – пообещала я. – А пока иди молочка с хлебушком попей.
Тяпкин загрохал кастрюлькой на кухне, а я продолжала работать.
– Мамочка! – позвала меня из сада Варвара Георгиевна: она меня всегда так называла, наверное, в назидание Тяпкину, который звал меня то «мамка», то «мать», то «мамаха» и лишь изредка «мамуля». – Мы с Иосифом Антонычем гулять ходили и недалеко от нашей калитки чью-то пижамку нашли. Это не Любочкина там в кустах заблудилась?
Я вышла на крыльцо, увидела в руках Варвары Георгиевны очень мне знакомую пижаму, всю перемазанную в песке и глине, растерянно взяла, произнесла «спасибо» и посмотрела на дочь. Тяпкин сидел на крылечке, держал в одной руке большой ломоть хлеба, в другой кружку с молоком, его стриженая голова была упрямо опущена.
– Как она там оказалась, Люба? – спросила я голосом, не сулившим ни мне, ни дочери ничего хорошего. Честно говоря, я не очень-то люблю ссориться с Тяпкиным, и если мне случается его отшлепать в сердцах, я огорчаюсь после гораздо больше, чем дочь. Все-таки Тяпкин – хороший ребенок, хотя и шкодник и упрямый.
– Как она туда попала, я спрашиваю? – повторила я.
– Её кто-нибудь украл, – тихо сказал Тяпкин, не поднимая головы.
– Вот как? Очень интересно. Иди-ка в комнату, ложись в постель, и пока ты мне всё не расскажешь, я с тобой разговаривать не буду и гулять ты не пойдешь. Лёшу я к тебе тоже не пущу.
– Мне его и не надо, – проворчал Тяпкин и, упрямо уткнув подбородок в ключицы, пошел в комнату, бросив по пути Варваре Георгиевне: – Нечего вам находить чужие пижамы, раз никто не просит!
Я отвесила Тяпкину подзатыльник, но ребенок мой даже не хлюпнул.
– Ишь, героиня! – сердито сказала я, взяла бидон и пошла за молоком к соседям. В общем-то, я тоже была сердита на Варвару Георгиевну: нечего находить чужие пижамы, раз не просят.
Дулись мы друг на друга часа полтора. Я сидела, работала, Тяпкин лежал голый на постели и сопел обиженно. Потом наконец он поднялся, подошел к столу и встал – подбородок прижат к груди, руки сложены сзади, голый пузик выпячен вперед. И молчит. Я делала вид, что не замечаю Тяпкина, увлечена работой.
– Мам? – вымолвил наконец Тяпкин басом.
– Да? – не сразу отозвалась я.
– Я больше не буду.
– Чего не будешь?
– Пижамку в кусты кидать.
– А зачем ты её туда кинула?
– Она грязная была.
– Почему это она оказалась грязная?
– Я к Лёше ходила, он в горе живет. Где песочная горка такая, знаешь?… А дырка очень узкая.
Так, слово за слово, мы восстановили картину преступления, и я Тяпкина простила. Правда, все эти басни про старичков, кроватки из песка и посуду из ракушек всерьез не приняла. Просто ходил мой ребенок повозиться в песке – он очень любит песочные домики строить, – а остальное выдумал. Надо натаскать будет песочку в сад, пусть возится, а то скучно одной. Про Лёшу я как-то не вспоминала: может, его и не было вовсе. Мы помирились и стали печь блины. Тут пришел Лёша.
Тяпкин первый услышал топот крохотных ножек на ступеньках крыльца, вышел посмотреть и сообщил мне:
– Мам, Лёшка приперся. Давай ему есть.
– Подождет, – сказала я недовольно. – Сейчас кончу блины печь, будем все ужинать. И вообще не морочь мне голову своим Лёшей, старичками и прочей мурой. Мне работать надо.
Тяпкин ушел на крыльцо, потом вернулся.
– Мам, дай молочка.
– Возьми в кастрюле.
– Мне надо все.
– Зачем? Ты лопнешь. И Лёша твой лопнет.
– Я не ему.
– А кому?
Тяпкин долго молчал, памятуя, что про старичков и «прочую муру» я ему говорить запретила.
– Там ежики… – сказал он наконец неуверенно.
– Где это? Какие ежики?
– Возле калитки. Папа, мама и пять ежичков маленьких. Они кушать хотят.
Хоть я и не больно поверила, тем не менее пошла за миской перелить молоко, чтобы ежикам удобнее было пить. Я сама люблю всякое живое и Тяпкину не мешаю любить. Тяпкин, пока я ходила, насовал в карманы байковой куртки сахару, взял три блина и сунул за пазуху. Стойко терпел, потому что блины жгли ему тело.
– Давай я отнесу мисочку, а то ты разольешь.
– Я сама. Они от тебя убегут.
Взял мисочку и тихонько пошел вниз по тропке к оврагу. Лёша запрыгал следом.
Пораздумав, я тоже пошла за ними: вдруг мой сердобольный ребенок бродягу какого-нибудь подкармливает или собаку бешеную. За себя я никогда не боялась. А вот с Тяпкиным мне разные ужасы мерещатся.