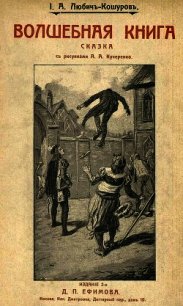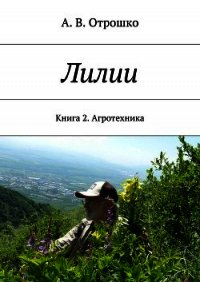Сон Лилии(Легенды и сказки) - Любич-Кошуров Иоасаф Арианович (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
Уже в четыре часа в коридоре зажигали висячую лампу с большим жестяным зонтом. Лампа давала мало света и, как войдешь в коридор, только и бросалась в глаза эта лампа, тускло мигавшая под потолком, да в освещенном ею пространстве беленые стены коридора и беленый потолок с громадною изогнутою тенью от проволочной дужки, на которой висела лампа — на стенах и теневым расплывчатым кольцом от зонта — на потолке.
Неясно вдоль стен коридора обозначались в полумраке двери.
Чем дальше в глубину коридора, тем неопределеннее становились очертания дверей и тем уже казались простенки между ними, а в глубине коридора и двери, и стены, и потолок стушевывались в один общий, темный тон.
Только когда зажигали газовые фонарь на улице, в широком квадратном окошке в глубине коридора от фонаря трепетал на стеклах слабый, точно родившийся в самом воздухе, из самого мрака, неясный свет.
Весь дом был рассчитан исключительно на мелких жильцов и был весь разгорожен на маленькие комнатки, расположенные одинаково во всех трех этажах — дверь против двери, двумя параллельными рядами по сторонам коридора.
Они занимали комнату в нижнем этаже.
Они давно уж жили тут, потому что, правда, трудно было найти где-нибудь более дешевую комнату.
Комнаты в нижнем этаже отдавались по шесть рублей в месяц.
Это было как раз им по силам.
В комнате постоянно было тепло, а в других домах в той части города, где им приходилось жить, они часто во время работы зажигали «лампу-молнию» и ставили ее на стол поближе к себе, чтобы не зябли руки.
А тут незачем было зажигать лампу-молнию.
На первое время, как они перебрались сюда, они были рады хоть этому теплу. И в первый же вечер, когда все трое они сидели за столом, каждый за своим делом, старшая сестра сказала младшей:
— Вот рай-то!
На ее широком желтоватом лбу с толстыми морщинами собрались капельки пота. Она смотрела на сестру немножко исподлобья маленькими серыми, блестящими глазками, откусывая нитку на шитье, и когда откусила нитку, положила шитье на стол и положила рядом ладони по сторонам шитья, прислонившись спиной к щитку стула.
— Прямо баня, — проговорила она тихо, продолжая смотреть на сестру искрящимися, окруженными теперь мелкими морщинками, глазками и улыбаясь в то время, как говорила.
Потом она перевела глаза на Володьку, тщедушного, с острыми плечиками, с бледным, худеньким личиком, сидевшего рядом на сундуке, положила на лоб ему руку и слегка запрокинула ему голову.
На лице Володьки появилось было немного недовольное выражение, потому что он тоже, вероятно, как и все люди, не любил, чтобы ему мешали за работой: он именно в это время вырезывал ножницами из бумаги что-то, что он один знал и что, может быть, никому не было нужно, а для него было необыкновенно важно…
Он чуть-чуть повел головою из стороны в сторону, стараясь высвободить голову из-под руки тетки.
— Тепло тебе, Володька?
Володька наклонил голову вниз, так как рука тетки более свободно скользнула у него по голове к затылку, и потом опять взглянул на тетку снизу-вверх большими, ясными глазами с длинными загибавшимися кверху ресницами.
Он ничего не ответил, только улыбнулся, и сейчас же эта улыбка передалась глазам, точно отразилась в глазах, в этих больших, ясных глазах на худеньком личике. Точно все лицо улыбнулось.
А младшая сестра, Володькина мать, тоже оставила работу, смотрела на него и тоже улыбалась.
— Пусть его, — сказала она сестре через секунду, опять принимаясь за иголку и еще раз взглянув на Володьку, как он, взяв ножницы и сосредоточенно сдвинув тонкие белые брови принялся резать бумагу.
В комнате было тихо. Только часы тикали.

Штукатуренные стены и потолок ярко белели в свету комнаты, белели на стене крытые белою краской дешевые деревянные часы, сверкая отчищенным ради переезда маятником, белели на подушках на кровати коленкоровые старая заплатанная простыня, которою было завешено развешанное на проволочной вешалке платье.
Сестры шили молча, не переговариваясь. Володька сидел на своем месте, на краю стола, и вырезывал из бумаги то, что ему было нужно, внимательно и сосредоточенно следя за ножницами.
Больше у Володьки не было никакого занятия, никаких игрушек.
И товарищей у него тоже не было, потому что сестры не отпускали его от себя никогда ни на двор, ни на улицу, потому что Володька у них тоже был один, и у них, как и у Володьки, не было никого близких.
И Володька никогда не просился ни на двор, ни на улицу. Целый день он сидел с сестрами и резал бумагу, поворачивая ее то так, то этак, и когда вырезал какую-нибудь фигурку, клал ее перед собою на стол или брал в руки и рассматривал очень серьезно и очень внимательно.
И иногда, когда он рассматривал так свою работу, все лицо его вдруг, все черты вздрагивали как-то странно, глаза широко открывались и на губах появлялась улыбка и долго не сходила с уст, точно губы замирали на этой улыбке… И в глазах тоже застывало одно выражение.
Иногда он даже смеялся громко про себя, как смеются или плачут во сне, — особенным горловым смехом, точно в забытьи.
— Чего ты, Володька? — спрашивали у него мать или тетка.
Но Володька только вскидывал на них глазами, продолжая улыбаться все так же, только улыбка его становилась несколько мягче и в ней появлялось особое выражение, как всегда, когда глаза его встречались с глазами матери.
Ведь я же сказал, что он один у них был, у матери и тетки, этот Володька, и когда они говорили с ним или смотрели на него, в их глазах и в тоне голоса было что-то, что заставляло замирать Володькино сердце, ощущение тихой, но великой радости, впивавшейся глубоко в душу.
Но Володька только улыбался в ответ и ничего не отвечал.
Володьке шел уже восьмой год, а он говорил так же неумело, как пятилетний ребенок.
Ему даже было как будто трудно говорить, трудно справиться со словами или подыскать слова для точного определения своих чувств и мыслей.
И часто он предпочитал вовсе не говорить.
И это казалось странным многим, кто приходил к сестрам с заказом, — почему Володька говорит так плохо?
И многие из заказчиков и из заказчиц, приглядываясь к Володьке во время примерки платья, когда кончена была примерка, спрашивали иногда:
— Почему он у вас такой? Больной должно быть?
Володька, правда, производил впечатление больного.
Лицо у него было бледное, худое, без капельки румянца, отливавшее немного в восковую желтизну, и особенно сильно проступала эта желтизна небольшими пятнами на лбу около висков, на висках, на подбородке. И когда он смеялся или начинал говорить медленно, невнятно, пропуская целые слоги и пристально смотря в глаза тому, к кому он обращался, точно стараясь угадать или спрашивая этим взглядом понимают ли его, — на лице у него появлялось выражение именно как у больного, когда больной силится приподняться или встать и не может и ему жалко себя, зачем он не может встать или подняться.
И заказчицы, и заказчики спрашивали:
— Болен он у вас?
А сестры гладили Володьку по голове и всегда отвечали одно и то же, заглядывая Володьке в глаза и потом переводя глаза на того, кто у них спрашивал про Володьку:
— Нет, это он такой потому что, знаете, ведь мы его никуда не пускаем, он все с нами, а нам, когда с ним говорить: день шьешь, ночь шьешь, — все молча… И он молчит, и мы молчим.
И если заказчик с виду был не из простых, какая-нибудь из сестер поясняла неуверенно:
— Практики нет, вот он и говорит так плохо…
И чуть-чуть краснела за это слово «практика», которое она, может быть, произнесла неправильно, и бросала быстрый взгляд на заказчика.
Они были совсем простые, эти портнихи, учились грамоте кое-как между иголкой и ножницами, а если потом немного образовали себя сами, то потому только, что у Володькиной матери от мужа, умершего очень рано, осталось несколько книг, и Володькина мать, овдовев, пристрастилась в одиночестве к чтению, а потом, когда она стала жить с сестрой, и сестру приохотила к чтению.