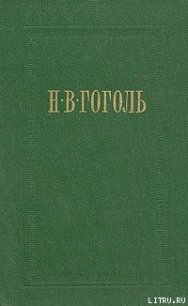Литературные сказки народов СССР - Гоголь Николай Васильевич (читать книги txt) 📗
— Слышишь? слышишь? — говорили друг другу братья. — Вот ему как будет! Вот как чудесно!
И Галя покрикивала:
— О, славно! о, любо!
Но у братьев упали как-то их живые, звучные голоса, и Галя как-то слабо ударила в ладошки, только раз, и потом притихла. И мать, хвалючи житье его, запиналась, слова замирали на дрожащих устах у ней…
На ужин был пшенный кулиш, но никто до него не дотронулся и никого сон не брал.
— Вы, деточки, не скучайте о брате… — начала было вдова, но голос оборвался и замер; она залилась горькими слезами и, как ослепленная, точно ловила детей около себя, схватывала их и осыпала поцелуями и все рыдала громче да громче.
Горько и тихо плакали мальчики, а Галя так совсем от плачу обомлела…
Пошли дни за днями и часы за часами; попривыкли дети, что нет старшего брата, но не перестали о нем думать и почти ежечасно его вспоминали то тем, то другим. Теперь и сказки всякие по праздникам были брошены, а толковали с матерью о брате; по праздникам мать ходила его проведывать и приносила от него вести все те же — что здоров, что служит… и это на разные лады брали и на разные лады об этом толковали; представляли себе его хозяина, о котором знали, что он тучный седой человек, портной, и ходит в синих шароварах и в черной чуйке, шьет всякие кожухи и свитки {209}; хату хозяйскую себе представляли, о которой знали, что она в три окна, крыта тесом, а внутри на белых стенах развешаны картинки, что изображают яркоперых птиц, морского разбойника, турку в красной чалме, с кинжалом в руках; представляли себе хозяйку, о которой знали, что она молодая и все вышивает, сидя под окном, себе очипки {210} шелками и золотом. И черную корову хозяйскую они себе представляли с рыжим теленком, а когда речь заходила о хозяйских санках и серой лошади, так Галя начинала раскачиваться из стороны в сторону, словно она сидела в санках и белая лошадь шибко везла санки по неровной, ухабистой дороге. Они сбирались, как лето придет, часто ходить к брату; как только весна дохнет, пойти его проведать. Да, они пойдут к нему, увидят его и наговорятся с ним. То-то хорошо будет увидеться! то-то ждать досадно! то-то зима стоит студеная и лютая! Вот как в хатке на лугу думали о старшем брате и больше всего на свете желали свиданья с ним, и Галя так часто говорила: «Хоть бы одним глазком поглядеть на него!», что уж только поминала «хоть одним глазком» — все знали, на что «хоть один глазок» хочет поглядеть, и вздыхали.
А между тем хозяева старшего брата смотрели на него только затем, чтобы видеть, исправен ли он, не проказит ли, и ни одного слова ему не промолвили, кроме приказаний, наказу, грозьбы да выговоров. И на площади, у колодца, куда он ходил брать воду и где по утрам и по вечерам сбиралось много народу, редко кто замечал серьезного, тихого мальчика, что с каждым утром и вечером становился угрюмее, в худенькой полотняной рубашке, в ветхой свитке, сшитой не по нем, и в плохонькой шапке, который терпеливо на трескучем морозе стоял, ждал своей очереди зачерпнуть воды; никто с ним не заговаривал.
Главная почти у хозяина работа ему была — таскать воду из колодца. До света его посылали к колодцу, когда еще весь город стоял в сизой мгле, люди не показывались, дымок не вился и когда у колодца было пусто; иногда разве встречалась наймичка или две, да и то редко. Его ведро пробивало замерзший за ночь колодец, и он тащил полные ведра на гору. Притащивши два ведра, которые хозяйка тут же расплескивала на умыванье своего чернобрового личика и белых ручек и туда и сюда по хозяйству, он опять шел за водою. Сизая мгла редела, дымок вился, кое-где попадались люди, и около колодца уже толпилось много народу — надо было ждать очереди. Он стоял и смотрел, как проворные, хлопотливые горожанки, заспавши долго, спешили и перегоняли одна другую к колодцу и от колодца, как шли наймички, подъезжали и отъезжали бочки. Сизая мгла совсем исчезала, всходило солнце и сияло. Какими блестящими, холодными, недружелюбными утрами он ворочался опять с полными ведрами к хозяевам! Тут надо ему было чистить двор, носить дрова из сеней в хату, сбегать к соседке Мотре спросить: когда будет день мученика Лаврентия — в среду или в четверг, потому что хозяйка сбиралась на именины к швецу Лаврентию; или сбегать занять у соседки Меласи дрожжей немножко, потому что хозяйка сбиралась ставить пироги; или сбегать на базар купить на грош иголок, если у хозяйки ломалась иголка, — и много было, вдоволь было ему побегушек и тукманок {211}. Но хозяйке можно было угодить — хозяйка была веселая, беспечная женщина, которая если не хозяйничала, так шила у окна, и напевала, и поглядывала на проходящих, и поглядывала на себя в зеркальце, что нарочно и повешено тут было против нее на гвоздике.
Но хозяину угодить нельзя было. Хозяин был придирчивый и капризный и вместе с тем жестокий человек. Жену свою он любил очень, а только утром глаза откроет — уж почнет придираться к ней, и до тех пор не отстанет, пока жена не заплачет или хоть не сберется плакать; тогда и доволен он, и скажет ей, что она ему милей всего на свете, и приласкает ее, и обещает какую-нибудь обнову купить. А маленького наймита он просто заедал без милосердия. Только стоило хозяину завидеть наймита, уж у хозяина было готово за что прикрикнуть на него, было за что пригрозить, было за что и толкнуть… Мальчик никогда не ответил ему грубого слова, никогда оправданья своего не привел, никогда не повинился — все принимал молча. Безответность раздражала хозяина, кажись, еще сильней, и он целый день не больше работал над кожухами {212} и свитами, чем над тем, как бы получше донять этого терпеливого мальчика. Проходил день — какой холодный, блистающий, неприязненный день! Вот свечерело. Хозяин понес работу готовую, хозяйка — к соседке посидеть или к вечерне помолиться — наймит опять с ведрами за водой к колодцу приходил. Вечерами толпа у колодца была шумней, чем утром. После дневного труда, и работы, и заботы поднимался смех, заводились громкие разговоры… Тут видал мальчик, как иная веселая и резвая девушка, не усмиренная ни трудом, ни работою, от души пела и подтанцовывала — танцевала и подпевала с ведрами в руках для всеобщего удовольствия и утехи; как кучера боролись друг с другом или брызгали водой и пугали девушек, как иногда развеселившиеся наймички тоже смеялись и играли. Шумела толпа, пока солнце не закатывалось. Солнце закатывалось, багровая вечерняя заря бросала на весь город свой багрянец, и мороз крепчал — звонко и резко отдавались все шаги по снегу, стук ворот, удар колокола, захлопнутая дверь, визг полозьев и бег санок, человеческий голос и собачий лай. И вечер потухал. Какой холодный, алый, одинокий вечер!
В хате свеча горит. Хозяин шьет — строчит какую-то полу, хозяйка вышивает цветок на очипке — сидят около стола оба. Наймит ведет лошадь на водопой, задает лошади и корове корму на ночь, загоняет упрямого кабана в закуту, приносит дров в хату на завтра, щепает лучину на поджогу, выгребает золу из печи, смазывает хозяйские чоботы… Все это время хозяин шил, хозяйка вышивала и что-нибудь хозяину рассказывала о том, что видела на базаре, что слышала от соседки. Хозяин слушал молча, но часто оглядывался на наймита, прикрикивал, грозил; случалось и то, что хозяин вставал от работы и карал наймита то за худо припертую будто бы дверь в сени, то будто бы за небрежность к чоботам, за которые он дал немалые деньги… Потом снова хозяин садится за работу, а хозяйка, глянувши на мальчика, иногда вздохнувши, опять начинает рассказывать. В хате душно и жарко; развешанные по белым стенам яркоперые птицы, кажется, обезумели от этой духоты и жары: они растопырили в отчаянии крылья и так остались, без сил лететь, без сил крылья сложить; другие в том же отчаянии свернулись и нахохлились. Но морской разбойник, турок, всегда важно и смело глядел в своей алой чалме, держась за кинжал… Сколько раз, когда тушили огонь и хозяин с хозяйкой засыпали спокойно и крепко, истомленному, разбитому наймиту грезилось, что все яркоперые птицы срываются со стен и шумно, отчаянной стаей вьются, бьются, кружатся над его изголовьем, все быстрей, все тяжелей, все жарче машут яркими, цветными крыльями — все душней от них… Вдруг, словно веянье ветра, словно вода плещет, исчезают все птицы, широкое и глубокое море колыхается и плещет в берег, на берегу сидит турок в алой чалме, держась за кинжал, глядит на наймита смелыми и важными глазами и словно о чем-то спрашивает и вдаль показывает… Сколько раз ему снилось, что поднимался на воздух с птицами, падал и разбивался! Сколько раз во сне он плавал по глубокому морю и тонул!