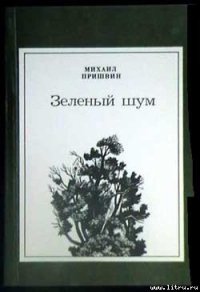Кащеева цепь - Пришвин Михаил Михайлович (бесплатные серии книг TXT) 📗
— Если бы я была мужчиной, — воскликнула Роза, — я бы не тратила время даром, я бы за границей изучила, как осушать болота, и потом я бы наши Пинские болота превратила в плодородную страну. Нет, я не стала бы терять время на раздумье, что изучать: наше ученье здесь дорого стоит. Вы думаете, мало нас, фармацевток? — продолжала Роза. — Что можно заработать в аптеке? А инженер и еще болотный, торфмейстер, я думаю, в России может всего достигнуть, и себе хорошо, и людям самое нужное.
Алпатов, слушая Розу, в одно мгновение представил себе, что сладость занятий науками — это личное дело, и потому нельзя ни на чем остановиться, что смотришь в себя, думаешь о себе: сам живешь, переменяешься, и там снаружи все переменяется. А вот если взять болота, как постоянную величину, как у Розы аптека, то действительно можно достигнуть бесстрастия и независимости. Но в то самое время, как он подумал о постоянстве болот, стала навертываться знакомая сладость на достижение независимости, та самая опасная сладость мечты, увлекающая его в беспредельность.
«А что, если закрепить свое решение сейчас, в этот миг навсегда и сделать предложение Розе?» — подумал Алпатов и посмотрел искоса, как она, доедая шницель, вычищала хлебом тарелку.
Выходит как бы ответ трудной математической задачи, ответ — факт: если только он сейчас сделает предложение Розе, то непременно и сделается потом болотным инженером и очень полезным человеком, и ему будет хорошо и совершенно покойно в ту же минуту, как получит согласие.
«Вот тогда все будет кончено», — подумал он в последний раз, чтобы вслед за тем сказать: «Я соглашусь сделаться болотным инженером и осушить потом Пинские болота, если вы согласитесь быть моей женой».
— Кельнер! — крикнула Роза.
Встала, уплатила, подала руку Алпатову и вышла.
Так бывает — на один волосок от себя пройдет что-то огромное и не заденет: не судьба.
«Слава богу, не сорвалось у меня с языка, — подумал Алпатов. — Роза от меня никуда не уйдет».
Он загадывает, с места не сойти, пока не придумает какой-нибудь выход в постоянство сознания, кроме последнего несомненного средства — жениться на Розе. Медленно, чтобы только показывать вид, будто он пьет и, значит, имеет право оставаться на месте, тянет он из кружки пиво и думает, потом еще спрашивает кружку... Мало-помалу вместо думы ввинчивается боль и живет там, внутри, как дума, все растет и растет, переходит в полное чувство физической боли, как зуб болит...
Вспыхивают электрические лампочки. Два кельнера усиленно гремят, сдвигая столы, наконец с поклоном подходит хозяин и вежливо напоминает: сегодня здесь будет встреча Нового года, сейчас закрываются двери, но потом, вечером, он просит гостя пожаловать к нему лично, если только милость его будет, встречать с его семьей и обычными гостями Новый год. Потом, узнав, что Алпатов иностранец, хозяин кнейпе объясняет ему всеобщий обычай в Саксонии угощать под Новый год всех, кто только бы ни зашел. И, конечно, хозяину особенно приятно будет почтить иностранца, который на чужбине вспоминает свою милую родину.
Алпатову сразу же после слов хозяина с небывалой силой и радостью вспомнилось русское Рождество, снега, узоры на окнах. Он очень благодарит хозяина и обещается. А хозяин считает своим долгом еще раз объяснить гостю, чтобы он не подумал, будто он его желает в интересах своего дела, нет: все угощение будет за счет хозяина, такой обычай во всей Саксонии.
В этом внезапном явлении русского зимнего рождественского ландшафта было Алпатову что-то совсем новое, и он это нес в себе домой до самого момента, когда маленьким ключиком повернул замок своей квартиры. Обыкновенно он входил почти неслышно в свою комнату, и хозяйка никогда не встречала его, чтобы не показать виду, будто он ее потревожил. Но теперь, как только он отворил дверь, хозяйка выходит ему навстречу, и у Алпатова является предчувствие какой-то беды. И когда хозяйка прошептала, что у него сидит давно гость, тоже русский, сердце упало у него: он знал, какой это гость, что это Ефим наконец приехал за отчетом в его революционных делах, тот самый Ефим, который, казалось, всегда был ему на родине всех дороже.
Самое ужасное, что Ефим Несговоров ничего совершенно не замечает по лицу Алпатова и так же идет к нему навстречу, как было раньше, и это, что было раньше, представляется Алпатову необычайно прекрасным и как-то родственно связанным с тем, что шевельнулось у него в душе, когда хозяин пивной пригласил его встречать Новый год, что-то русское с праздниками, хотя Ефим праздников не признавал, с морозными узорами на окнах, хотя Ефим узоров никаких не видел и занимался только революцией... Все это промелькнуло мгновенно в одном объятии, хотя никаких объятий не было, и друзья только подали руки, и Ефим улыбнулся только глазами.
Алпатов неестественно ласковым голосом спрашивает:
— Ты меня долго ждал?
Ефим сразу чувствует неестественный тон и спрашивает довольно сурово:
— Где ты был? Алпатов отвечает:
— Так... был в кабаке.
И все кончено, Ефим уже хмурится, уже догадывается.
Спрашивает:
— Ты сделал что-нибудь?
— Ничего, — ответил Алпатов, точь-в-точь как в первом классе гимназии, когда показывал матери журнал и там были одни единицы и хотелось объяснить, что не он виноват, а несправедливые учителя.
— Значит, ты опять в ху-до-жест-ве? — сурово спрашивает Ефим.
— Значит, в художестве, — отвечает Алпатов.
— И не хочешь работать?
Алпатов назло, как, бывало, учителям:
— Нет, не хочу!
Ефим поднимает голову и смотрит внимательно:
— Что это у тебя губа рассечена, ты упал?
— Я дрался на дуэли за женщину, — ответил Алпатов. Ефим поднимается с кресла и, не прощаясь, идет к двери и на ходу говорит:
— Какой ты шалун!
Знакомая дверь там, в коридоре, захлопывается, запираясь автоматически.
Все кончено.
Случилось гораздо большее, чем Алпатов представлял себе, когда вгорячах отвечал Несговорову, но он это не сразу понял и уснул в кресле, как будто ничего не случилось. А когда он просыпается, то ему теперь повторяется совершенно так же, как было, когда его исключили из гимназии. Быстро он одевается, выходит на улицу, идет по круговому бульвару и ничего не видит, впереди только темные стволы каштановых деревьев: все внутри. Выходило немного странным и нелогичным, ведь вместе с этим Ефимом они с детства отрицали все, что называется родным, праздники с попами и иконами, русские неудобные телеги, сохи, овраги — все, даже над русским морозом смеялись всегда, вспоминая: «Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». А теперь все это явилось прекрасным, почему-то неразрывно связанным с Ефимом и вместе с ним теперь утраченным. Алпатов и теперь не знает в своем словаре родины, но ландшафт является ему картиной, которую, кажется, если бы можно в темноте, он точно бы нарисовал, и при этом все располагается в этом ландшафте под музыку.
Далеко где-то молотилка, будто пчела гудит. А в лесу настоящая пчела летит за последним взятком, будто молотилка вдали гудит. Вот как тихо: земля под ногами, как пустая, бунчит. Миновал перелесок, спустился в низину, вспомнилось ее необыкновенное старинное название: ендова. Тут, в ендове, люди в овчинных тулупах перележали холодную осеннюю ночь возле своих лошадей. Люди эти просты, как полевые звери, и разговор их самый простой и веселый про одного зайца, которому корова наступила на лапу, все очень смеются, вспоминая, как вился под коровьей ногой русак, а она так ничего и не знала о нем, и все жевала и жевала. А за ендовой уж начинается чужой лес, и тут ему встречается обрамленный осенними цветами деревьев светлый водоем, как затерянное начало всего прекрасного на свете. Тут с разноцветных деревьев, кленов, дубов, ясеней и осин, юноша выбирает самые красивые листы, будто готовит кому-то цвет совершенной красоты. «Друг мой, — шепчет голос, посвящающий в тайну, — не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, действуй тут силой, почерпнутой из источника, и дожидайся в отважном терпении, когда голос мой позовет тебя принять свет прямой».