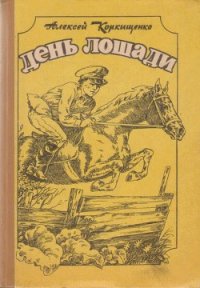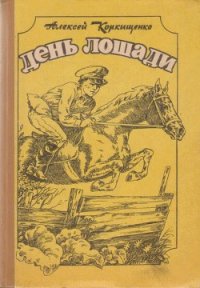Внуки красного атамана - Коркищенко Алексей Абрамович (читать книги онлайн TXT) 📗
- Да, я такой, потому что очень люблю тебя и потому, что у меня появилась прекрасная цель! - Егор размахался руками, стоя на одной ноге, костыли свалились в снег, и Даша обняла его крепко, чтобы он не упал на дорожку.
Вместо эпилога
Ближе к полудню над Голубой впадиной стали рождаться облака, белые, полные, с крутыми боками, очень похожие на сдобные пампушки, и между ними будто бы сгустилась, стала еще синее и бездоннее прохладно-родниковая небесная глубина... Егор опустил глаза, облизал пошершавившие губы и обругал себя недотепой: заторопился утром на бригадный наряд и забыл приготовленные Панётой харчишки, а пить и есть уже так хотелось!..
Он сидел на низенькой скамеечке у делянки гибрида озимой пшеницы номер один, выщипывая пинцетом тычинки из колосков. А на соседней делянке в колосьях гибрида номер два они выдернут пестики, но оставят тычинки и затем произведут перекрестное опыление этих двух гибридов. Так же сделают с третьим и четвертым гибридами озимой пшеницы. Одеревенела уже спина - не разогнуть ее, очугунели руки - пальцы судорогой сводить стало, и ноги затекли, но Егор терпел, проявлял выдержку: вот еще парочку колосьев очистит от тычинок - и тогда сделает передышку, разомнется, пройдется. Он в одиночку начал эту кропотливую работу. С полудня, после уроков, должны подъехать с Дашей Васютка, Митенька, Зина и Маня, помогут ему. Дела на всех хватит, и надо спешить, чтобы за несколько дней до цветения пшеницы подготовиться к перекрестному опылению по схеме агронома Уманского.
Прихрамывая, Егор прошелся вдоль поля "арнаутки". Сеяли ее реденько четыре центнера семян было, посеяли на пяти гектарах, но она хорошо раскустилась: от каждого зернышка до десятка стеблей пошло.
Размявшись, Егор снова примостился на скамеечке, взял в ладонь колос ласково и осторожно, как только что вылупившегося цыпленка. Раздвигал чешуйки, напрягая зрение, ухватывал пинцетом серо-зеленые перышки тычинок. Утомительно-нудная это работа - готовить колосья пшеницы к гибридизации, но он все вынесет, все выдержит. Жестокая война продолжалась, и никто бы не смог сказать, когда она закончится. Гитлеровцев теснили на всех направлениях - от Азовского до Баренцева моря, - но они цеплялись за города, высоты и побережья рек, как клещи-кровососы, въевшиеся в теплое, живое тело. Война с фашистами продолжалась, и Родине был нужен хлеб.
Глаза у Егора слезились от напряжения, побаливали, но он вытирал слезы рукавом выгоревшей на солнце гимнастерки и подшпынивал себя: "Ишь, какой слезливый! Терпи, казак, не поддавайся... Втянулся в такую тонкую работу глаза еще зорче станут".
Механическая работа занимала лишь руки, оставляя мысли свободными. А они часто возвращались к Виктору Васильевичу, агроному. Сколько же времени прошло с тех пор, как они здесь, в Голубой впадине, простились?.. Ровно год. Не может быть!.. Не верилось в это, ведь сколько событий вместилось в один год и столько пережито!.. Ему казалось, что с той поры прошло, по крайней мере, года три-четыре. Он, тогдашний, казался себе, теперешнему, глуповатым, смешным. За барьером весны остались его отрочество и хорошая часть юности. Мужицкие, взрослые, зрелые мысли стали приходить к нему о работе, о хлебе, о людях.
...Было время Егору думать.
Саньку вот опять вспомнил, вздохнул. Дед Миня еще тогда, в марте, съездил в Шахты, провел там несколько дней в поисках Саньки, но и следов его не отыскал. Соседи с улицы, где жил дядя Назар, ничего не знали ни о Саньке, ни о Петьке. И бабка Петькина куда-то пропала. Говорили, отправилась она к родне на хутор. А на какой хутор - никто того не знал. Вернулся дед Миня ни с чем...
А в апреле, едва подсохли дороги, к ним в станицу явился Петька, изможденный, опирающийся на палку, с худой котомочкой за спиной.
- Откуда ты, Петро? - спросил дед Миня.
- Да оттуда же... Из станицы Красногвардейской, - хмуро ответил Петька. В госпитале лежал...
- Где же тебя ранило? Петька помолчал, подумал.
- Да там же... В Шахтах.
Они все ждали-ждали, вот-вот Петька что-нибудь скажет о Саньке, но он сидел на лавке под грушей, устало нагнув голову, сплевывал сухую слюну под ноги и больше ни слова не вымолвил.
- Что ж ты о Саньке, слова не скажешь? - упрекнула его бабка Панёта, не выдержав. - Где же он? Что с ним?
- Я не знаю, - едва слышно произнес Петька. - Зашмыгав носом, поднял голову. Глаза его были полны слез. - Мы с ним давно расстались... Еще тогда...
Бабка, купая Петьку в корыте, обратила внимание на шрамы рваных длинных ран на его худой спине.
- Кто тебя так, Петя? - ужаснулась она.
- Так кто ж... Они ж, подлюги! - коротко ответил он.
Петька прожил у них несколько дней. На расспросы не отвечал. И только перед уходом рассказал, что произошло с ним и с Санькой.
В начале зимы задумали они перебраться к партизанам. Ходил слух, что в Горном лесу за Шахтами обосновались партизаны. Стали готовиться к уходу. В каменном карьере Накопили целый склад немецких продуктов, оружия и разного барахла. По их мнению, все это могло бы очень пригодиться партизанам.
Как они добывали трофеи? Катались, например, на коньках по улицам и высматривали, куда и что везли фрицы в автомашинах. Высмотрят, что им надо, и цепляются крючками из проволоки за борт последней автомашины. Жали за ней на полной скорости. За свистовским мостом по дороге на Новошахтинск забирались в кузов и выбрасывали на обочину в снег продукты, лекарства, оружие, в общем, самое нужное и ценное. Портили то, что было не под силу выбросить из кузова. Потом выпрыгивали из машины и собирали трофеи.
И хотя они действовали, как им тогда казалось, хитро и умно, все-таки засыпались. И произошло это так.
Оккупанты запрещали ходить по улицам после шести часов вечера. Кто нарушал этот приказ, того расстреливали на месте. А Санька с Петькой так помозговали: раз фрицы такие настороженные с вечера, то им лучше действовать с двенадцати часов ночи. Так и делали. Зная в городе все входы и выходы, они без боязни свободно шастали по немецким объектам.
Однажды забрались в походную оружейную мастерскую на улице Пролетарской. Сошло удачно на тот раз. Они выгребли из мастерской инструменты, пистолеты, ракетницы, пулеметные замки, в общем, все, что там было, и уволокли в свой склад. Переждали день-два - и снова вышли на охоту. Со дня приметили: во дворе, где раньше размещалась колхозная мельница, остановилась колонна автофургонов. Туда пошли. Ночь была морозная, с метелью. Часовые прятались в затишках. Забрались Санька и Петька в кузов крайней автомашины. Там лежали кипы шерстяных одеял. "Пригодятся партизанам теплые одеяла", - подумали они, сбросили в сугроб несколько кип и поволокли их за сарай. И тут ребят заметил караульный офицер, вышедший проверять посты, подняв стрельбу. Друзья пустились наутек, но сбежались часовые, окружили... Били их безжалостно, выпытывали: кто такие? откуда? не партизаны ли?
Ребята молчали. Их стегали куском свинцового кабеля. Он прилипал к телу, рвал кожу. Они держались стойко. Тогда фашисты стали посыпать их раны каким-то едким порошком. Хлопцы часто теряли сознание...
Петька, рассказывая об этом, скрипел зубами.
- Они били нас, подлюги, издевались над нами и все допытывались, кто мы такие и откуда, но не допытались. Мы им ничего не сказали. На ночь фашисты бросили нас в сарай и облили водой. Они думали, что мы тут же окочуримся, превратимся в сосульки. Но мы их так возненавидели, что забыли про боль и про мороз. Мы бегали, толкали друг друга, чтоб разогреться, до самого утра. Когда я падал - Санька поднимал меня. Когда он валился - я держал его. А утром тот караульный офицер отпер сарай и вылупился на нас:
- Майн готт! Ви есть живой?!
Они еще раз побили нас кабелем и отвезли в гестапо. Мы очнулись в подвале, набитом людьми. Мы стонали и кусали губы от боли. Пожилая женщина сказала:
- Проклятые фашисты, и ребят не щадят.
- Держитесь, хлопцы, держитесь. Пусть фашисты не услышат от вас стонов и не увидят ваших слез. - Это сказал мужчина, который держал мою голову на коленях.