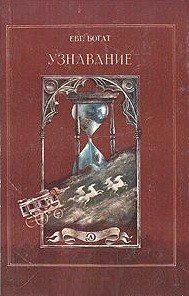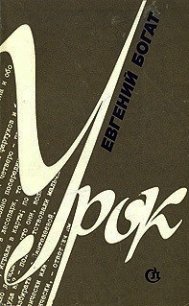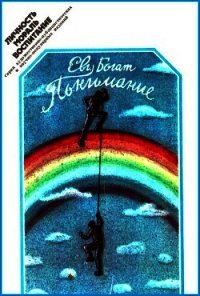…Что движет солнце и светила. Любовь в письмах выдающихся людей - Богат Евгений Михайлович (книги бесплатно без онлайн .TXT) 📗
Можно улыбнуться сегодня, читая строки из писем поэта-романтика Ленау: «В прекрасных глазах, подобных твоим, как в пророческом иероглифе, является нам материя, из которой когда-нибудь будет создано наше вечное тело. Когда я умру, то уйду из этой жизни богатым, так как видел прекраснейшее… Слова, сказанные тобой сегодня вечером, как бальзам, пролились в мое сердце… Такие минуты наполняют сердце бурным избытком и счастья, и страдания, и оно, смущенное, не знает, исходить ли ему кровью или смеяться…» Можно, повторяю, улыбнуться, можно… Но тот, кто ощутит в ворохе слов этих, похожих на ворох старой, старой листвы, живое подлинное страдание — страдание, от которого даже умирают (что и доказал собственной судьбой поэт), устыдится желания улыбнуться. Увядает стиль, но не умирает боль.
В книге А. Н. Сологуб-Чеботаревской особенно много писем женщин, в отличие от моей, куда более «мужской». (И это естественно: писатель склонен рассказывать о том, в чем он разбирается. То, что написано о загадке женской души, отнюдь не романтический вымысел, потому что написано это мужчинами, а мы ее действительно не понимаем.)
Странное дело — ни одно из этих женских писем не вызвало иронии и у самых несентиментальных, даже антиромантически настроенных людей, которым я давал читать их. Они не казались ни банальными, ни инфантильными, ни даже наивными, хотя написаны были в то же самое время и порой в духе тех же умонастроений, что и мужские «смешные». Почему? Самое легкое, не раздумывая, отнести это к «загадке женской души». Но, объявляя загадочное загадкой, мы не делаем его ни более понятным, ни более волнующим.
В письмах женщин, которые любили, есть та возвышенная трезвость, земная нежность и земное милосердие, то радостное переживание живого мира, которое делает их неувядаемо естественными, именно естественными, как естествен лес или дождь. Эти «несмешные», несмотря на всю «старомодность» чувств, женские письма делают более понятными и «смешные» мужские, ибо раскрывают в женщине то, от чего можно, как некогда говорили, потерять голову и сердце. (Хотя как раз те, кому они писались, не теряли часто ни сердца, ни головы.)
Я вернулась сегодня вечером в Эрбле, думая о вас, — писала в 1841 году забытая ныне французская писательница Гортензия Алларт де-Меритенс известному писателю и критику Сен-Беву. — Если бы вы знали, какое очарование быть одной в природе среди зимы, вдали от шума городов и суеты страстей. Я не поспела на дилижанс в Эрбле, и мне пришлось ехать в карете, отправляющейся в Понтуаэ, которая довезла меня до того места, где мы с вами обедали; оттуда я пошла пешком при свете луны в легком тумане. Я была так счастлива, воздух и тишина давали мне такую радость, что я готова была броситься на колени в грязь и благодарить бога; бегущие облака проносились над рождающейся луной, вечерний холод был не резкий, воздух был пропитан туманом и населен видениями. Все было спокойно, все с негой призывало к домашнему очагу. И, сидя здесь, у моего одинокого очага, я чувствую радость, передать которую я вам не сумею. Я слышу только дыхание моего уснувшего ребенка; все в деревне спит, кроме меня, пишущей вам. Мне кажется, что я с радостью разделила бы с вами эту тишину уединения полей. Мы бы вместе наслаждались общением с наукой и одиночеством; тут около меня все эти мудрецы, мои истинные возлюбленные. Какую радость дает наука! Как приятно быть одной с книгами! Но хорошо было бы также читать их с кем-нибудь, — по очереди, как вы говорите в ваших стихах.
Меня очень смутило то письмецо, которое вы мне написали, — вы, который бежит от любви, как сражающийся Парфянин. Любили мы друг друга? Нет, так не любят. Я знаю, что значит любить, я* бы вам показала, как я умею любить. Теперь, может быть, мы могли бы начать. Любовь — это что-то святое, томительное, то грустное, то радостное. Никто бы не внес в любовь к вам такой нежности, такой свободы, как я. У нас был бы один общий культ, культ великих писателей на земле и богов на небе. Подарите мне хоть на мгновение тень сожаления об этом, а потом сейчас же раскайтесь по обыкновению. Вы всегда очаровывали меня…
В вас есть какая-то сдержанность, скрытая сила, скромность и величие, полное такой неги и красоты, что мысль всегда обращается к богу. Я бы сумела понять вас и нашла бы радость в том, чтобы жить для вас.
Я прочла сегодня вечером у Бэкона: «Всякая наука и всякое преклонение перед ней приятны сами по себе». И еще: «Науки вызывают в душе постоянное волнение. Бедность — удел добродетели и т. д.»
Почему это письмо хочется перечитывать? Должно быть, из-за тишины, которая растворена в нем, тишины любви. Это — и тишина мудрости. Очарование письма и в обилии — при всей возвышенности чувств — чисто земных, обыденных подробностей. Хотя и мелькает в нем — в духе эпохи — «воздух, населенный видениями», но мы видим явственно: карету, каменистую дорогу, тускло освещенную рождающейся луной; одиноко освещенное окно в ночном доме; чувствуем нерезкий холод туманного зимнего воздуха и даже как бы осязаем старые кожаные переплеты книг. То, что она пишет о любимом: «скрытая сила, скромность и величие, полное такой неги и красоты», — хочется отнести к самому письму. Точнее и не определишь его особенность — «скрытая сила и величие».
А вот что писала в самом конце большой неспокойной жизни известная французская писательница Сталь (1766–1817) писателю и политическому деятелю Бенжамену Констану:
Нет, право, я не могу вас забыть. Я хотела, я могла бы, затаив в душе своей горе, утешить его развлечениями, но оно вновь оживает, лишь только я остаюсь одна. Навсегда разбитое счастье! Если бы вы обладали свойствами преданного друга, то я осталась бы счастливейшей из смертных. Но этого я не заслужила. Свидание с вами пробудило во мне весь дух и способность верить, погасшую вместе со всем остальным. Если вы не приедете сюда — в Англию — я приеду на континент. Мне кажется это возможным. Кто знает, что станется с миром? Свободе угрожает одинаковая опасность с обеих сторон… Но самое главное, надо, чтобы тот, кто стоит вне пределов человеческого естества (речь идет о Наполеоне. — Ред.), перестал царствовать. Записку, присланную мне, я передала министрам. Она была написана так же превосходно, как и все исходящее от вас. Я сомневаюсь, чтобы у кого-нибудь можно было найти подобный стиль, подобную твердость и ясность выражений. Вы были бы предназначены к высокому назначению, если бы остались верны себе и другим.
Видели ли вы предисловие к моей книге, и знаете ли вы, какое ее воздействие на континенте? Если вы хотите продать здесь ваше сочинение, думаю, что я могу вам в этом оказать помощь. То, что относится к современному политическому положению, — очень ценится. После свидания с вами я отправлюсь в Грецию. Стихотворение «Ричард» станет моим завещанием. Бенжамен, вы отняли у меня жизнь! В течение десяти лет не существовало дня, когда бы мое сердце не тосковало по вас. Как я любила вас! Оставим все это, — это слишком жестоко, но все же я никогда вам не прощу, как никогда не перестану страдать…
Возводить здание на песке жизни — тяжкий труд; лишь страдания неизменны и постоянны. Напишите мне.
Я часто писал о том, что умение переживать личное, интимное в сочетании с общечеловеческим, мировым — отличительная особенность человека XX столетия. Действительно, если иметь в виду людей «рядовых», будто бы ничем не замечательных (хотя абсолютно ничем не замечательных, абсолютно рядовых, по-моему, не существует), если, повторяю, иметь в виду не мыслителей или художников и социальных деятелей, то особенность эту можно назвать новой, даже нарождающейся, ибо раньше она была уделом лишь избранных. Была она и уделом истинно любящих.
Я коснусь сейчас одной замечательной особенности любви, надеясь в последующем остановиться на ней более подробно.
В старом, почти тысячелетней давности стихотворении рыцарь, расставаясь с дамой перед походом, говорит ей, что любил бы ее больше всего на свете, если бы не любил больше всего на свете чести. К чести дамы, она понимает, что это ничуть не умаляет любви к ней-рыцаря, не отводит любви второе место в его жизни, а, напротив, сообщает ей особую силу и красоту, делает истинно рыцарской. Почему? Да потому, что человек, для которого честь на втором месте, не удержит на первом любовь перед лицом опасности, в испытаниях. И, не удержав, утратит ее совсем. Рыцарь, ставящий честь ниже любви, в любви ненадежен.