Джарылгач (сборник) - Житков Борис Степанович (книга жизни txt) 📗
А у меня жестяночка с красной краской, а у Сережи — кисточка. Вот мы с Сережей к думе. Я сторожить остался, а Сережа — к пушке. Мигом влез на фундамент, уцепился за лафет. Вот уж вижу — там, малюет. Вот уже Гришка саженями шагает через площадь, торчит столбом верстовым. На него просто посмотреть — так городовой свистнет. Вот Сережка спрыгнул. А Гришка — ему пушка как раз под рост; дуло-то высоко, а ему как раз руками достать — ух! — и ушла колбаса в пушку, шнурочек только чудесный, как макаронина, висит из рта пушки.
Часы у нас по-думски поставлены в точности. Во, как раз четыре минуты осталось. Вижу, Гришка раздул папироску и припалил шнурочек. Теперь ходу, ребята! Гришки уже нет. Вмиг отшагал, верблюд проклятый, не видит, что под самой пушкой, на скамеечке бульварной, сидит парочка. И парочка ничего не видит, конечно, тоже: им не до нас. Да и не видать впотьмах. Но ведь они со страху лопнут, как шнурочек-то кончится. И всего три минуты осталось. Мы с Сережкою вмиг, как сговорившись, за снежки, а тут и околоточный на крыльцо выставился. Я в Сережку снежком, он отбежал, стал против скамейки. Я бац еще раз, да в спину скамейки. Снежок расшибся, барышне за шиворот попало. Кавалер вскочил. Сережка меня снежком да кавалеру по шапке: две минуты осталось, когда тут нюнить!
— Фу, нахалы какие!
А Сережа:
— Извините, я ниже целил.
А кавалер барышню под руку и быстрым шагом прочь, по бульварчику вниз. Мы с Сережкой бегом и все вроде в снежки играем. Вот он, Гришка, стоит в сквере. Остановились мы, ждем. Замерли. Сейчас шнурочек должен догореть. Там, в думе, сейчас бокалы поднимают за упокой революции. «Ура» кричат, сюда слышно.
Гришка, слышим, шепчет:
— Пикни, мамочка, пикни, родная моя!
Ничего. Тихо, все замерло. Ударил колокол в соборе. Гришка сорвался:
— Я погляжу в нее, что там.
Мы его за полы:
— Куда ты! С ума ты…
И тут как ахнет! Мы даже подскочили. Ну, знаете, и пикнуло. Тысячью хлопков застукало эхо.
Мы только видели, как белое густое кольцо выпрыгнуло из пушки и важно поплыло в воздухе. Секунду все молчало, пока отхлопало эхо. И тут как заверещали свистки! В думе двери захлопали. Вылетели околоточные, господа во фраках, все забегали по крыльцу, со свечками бегут, с канделябрами. Пристав с крыльца скатился, вот полицмейстер бежит, как был, без фуражки, салфетка на мундире. Кареты с перепугу рванули. Ух, какую-то понесли кони!
— Фиюррр! Держи! — Городовые бегут, свистят, все разом.
Кто-то кричит:
— Бомбу бросили, спасайтесь!
Мы бежим тоже, кричим:
— Что? Что случилось? Ради бога!
Все бегут к пушке. Полицмейстер кричит:
— Да не бойтесь: второй раз сама не выстрелит!
Наконец примолкли, расступились: шел губернатор, с ним голова. Какие-то во фраках несли канделябры со свечками.
— Осмотреть, осмотреть! — басил губернатор.
Губернаторский адъютант ловко влез на лафет.
— Внимательно осмотрите. Дать ему свет! — командовал губернатор.
Друг через друга карабкались чиновники с канделябрами, капали стеарином на спины.
— Ну, докладывайте оттуда, сейчас же! — кричал губернатор адъютанту.
— Тут надписи, ваше сиятельство, красным. Свежая краска. — Адъютант обтирал рукав.
— Вы там не прихорашивайтесь, не перед зеркалом! — крикнул губернатор. — Читайте! Кажется, грамотный. Громче, не слышно!
— Вот тут написано… — тонким голосом начал адъютант и смолк.
— Ну! — рявкнул губернатор. — Осипнуть изволили с перепуга. Герой!
— Здесь на-пи-са-но, — во весь голос кричал адъютант, — написано: «Ура! Ура! Ура! Да здрав-ству-ет… Российская… социал-демократическая… рабочая… пар-ти-я!!!»
Пекарня
Как-то раз на пирушке у товарища, меня обидели, хозяин не заступился, я хлопнул дверью и вышел не попрощавшись.
Это было как раз недели через две после того, как ушли от нас красные и в город ввалились белые.
Дело было в слободке. Места я не знал и злыми шагами пошел наугад вдоль забора. Но забор кончился, и скользкая, мокрая дорога пошла под гору. Я очутился в овраге. Наверху, на той же стороне, мутными зубьями чернели лачуги. Я стал карабкаться вверх по липкой грязи, но пьяная лень одолела — я лег на мокрый откос и решил ждать до утра.
Я уже стал засыпать, как вдруг почувствовал, что на мою мокрую кепку хлынула волна не то песку, не то какого-то зерна. Я насторожился. Волна повторилась. Я схватил рукой: не зерно, не песок, а сухая земля. Я привстал и глянул наверх: две человеческие фигуры маячили на краю оврага. Теперь я ясно увидел, как они вывернули мешок. Сухая земля снова докатилась до меня. Хмель соскочил с меня. Все Пинкертоны, которых я читал, вихрем закружились в голове. Я обрадовался, что не крикнул.
Я шепотом сказал себе:
— Федя, не зевай шанс, здесь тайна. Ты один, без помощников, откроешь ее.
Я взял горсть этой земли и сунул в карман. Шерлок Холмс, пожалуй, тоже не прозевал бы.
Наверху фигуры исчезли. Я встал на четвереньки и кошкой пополз наверх. Я осторожно огляделся. Передо мной был поломанный забор. Наверное, они ушли туда. Я боялся переступить: во дворе, наверное, собака. Я воровски обошел двор и оказался на улице. Направо я увидал пароконный фургон и трех человек около него. Яркий свет из отворенной двери освещал всю группу. Я прислушался: они говорили не по-русски, а на каком-то кавказском наречии. «Теперь осторожность и храбрость: надо пройти мимо них и заметить лица».
Пьяной походкой я прошел по мосткам, я был весь в грязи, и меня легко было принять за гуляку. Я поматывал головой. На фургоне я успел прочесть: «Пекарня Тер-Атунянц». Я осторожно мазнул глазами по лицам — так и есть, бородатые кавказские лица. Один высокий, кривой: левого глаза нет. В освещенную дверь я увидел внутренность обыкновенной булочной.
«Тьфу, кажется, я зря пинкертонил! Обычное дело: всегда по ночам разносят хлеб в булочные. Пожалуй, они не сыпали землю».
Я прошел еще десять шагов и пьяно прислонился к забору. Кавказцы замолкли.
Боком глаза я следил за ними из темноты. Вдруг высокий повернулся и пошел ко мне по мосткам. Он стал вплотную против меня, чиркнул спичку и поднес к моему лицу. Признаюсь, душа сползла у меня в пятки. Я, как мог, распустил губы и сопел носом.
— Кто такой? — сказал кавказец и опять чиркнул спичку.
Я приоткрыл глаза. Лицо его показалось мне страшным: будто дуло из кустов, глядел из-под брови его единственный глаз. Он что-то крикнул своим, и те двое затопали ко мне по мосткам.
— Ты здешний, слободский?
— Нет, — просопел я и помотал головой.
Но двое взяли меня за руки, а третий стал шарить по карманам. Он нащупал землю, захватил ее в горсть, что-то крикнул своим, и меня повели в булочную. На свету они рассматривали землю, а косой крепко держал меня за руку. Немилым глазом смотрели они на меня.
— Городской, говоришь? — сказал кривой. — Заблудился? Подвезем.
Вот мы въехали в город, замелькали уличные фонари. Из фургона я увидал собор. Вот Государственный банк, и часовой у фонаря. Вот свернули в переулок, и фургон стал. Меня под руки ввели в пекарню; крепко пахнуло свежим хлебом. Ранние покупатели толклись у прилавка. Мои провожатые весело гоготали. И вот я уже в задней комнате: голые лавки по стенам, деревянный стол, счетная книга и тусклая электрическая лампочка с потолка. Кроме тех двух, что меня привели, появилось еще двое. Кривой начал допрос:
— Зачем землю брал?
Я сказал, что взял землю спьяна, наобум, и сейчас же стал говорить про себя. Сказал, что я дорожный мастер, что сейчас я без места, что кавказцев люблю, потому что работал на Кавказе, делали тоннель.
— Это вам не хлеб печь! Это, знаете, с одной стороны гору копают, а с другой — им навстречу. Одни других не видят, а надо, чтобы сошлись.
Я уже развалился, размахивая руками, слюнил палец и чертил на столе.
— Гора каменная, работа трудная, а вдруг попадут мимо, не сойдется — миллионы пропали. Инженер ночей не спал. Вот пришло время, вбегает инженер, бледный, вот как эта стенка. Что, спрашивает, не слышно? Нет, говорим, не слыхать. Ничего не сказал и убежал. Убежал и застрелился. А через полчаса мы через дырочку уже прикуривали у тех, что с той стороны. И весь тоннель сошелся, будто кто гору буравом просверлил. Это вам не калачи в печку сажать.
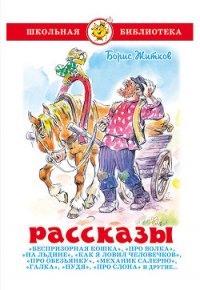

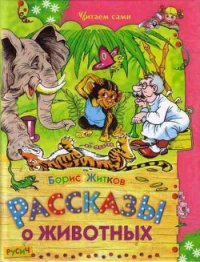

![Важный разговор [Повести, рассказы] - Печерский Николай Павлович (книги без регистрации бесплатно полностью .TXT) 📗](/uploads/posts/books/39622/39622.jpg)