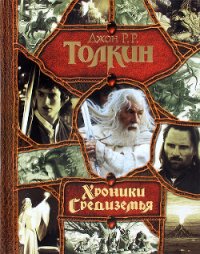Инженеры - Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (чтение книг TXT) 📗
- Может быть, и ты с нами? - обратилась к брату Аглаида Васильевна.
- А что ж? С удовольствием пойду.
Немного вперед шла Аня в своей круглой соломенной шляпке, короткой накидке и коротком платье, тут же сзади Аглаида Васильевна с братом, а значительно отстав, шли Карташев с Евгенией Борисовной.
Сначала шли молча, потом она сказала:
- Получила от Дели письмо, кланяется вам.
В голосе Евгении Борисовны почувствовалась Карташеву особая нотка.
- Очень, очень ей благодарен. Пожалуйста, кланяйтесь от меня ей. Я никогда не забуду того короткого времени, которое провел в ее обществе. Как она теперь поживает?
- Пишет, что скучно. На днях она уезжала к сестре в имение в Самарскую губернию - там у нас у всех имения, а на зиму опять возвратится к отцу. Весной же мы с ней и мужем думаем поехать за границу. Пасху она проведет с нами здесь, и после пасхи вместе уедем.
Евгения Борисовна помолчала и сказала с своей обычной авторитетностью:
- Деля очень хороший человек и даст большое счастье тому, кого полюбит.
- О, я в этом не сомневаюсь, - горячо ответил Карташев. И печально докончил: - И я даже представить не могу человека, который стоил бы ее.
- Кто оценит, кто полюбит ее, - тот и будет стоить.
- Ну, этого мало еще; тогда слишком много бы нашлось охотников.
Карташев опять проходил монастырский дворик, и сердце его радостно сжалось от охватившего воспоминанья о том, как шли они здесь с Аделаидой Борисовной.
Вспоминалась и Маня Корнева, ее сверкавшая сквозь кисею белизна кожи, сильный запах акаций, васильков и увядавшей травы. Так прозрачно, так нежно было над ними небо, а там вверху черные вершины деревьев тихо и неподвижно слушали пение женских голосов, выливавшееся из открытых окон церкви. Пела и та стройная красавица монашка, которая подавала самовар в келье матери Натальи.
Карташев вздохнул всей грудью и вошел в церковь. Прихожан было очень мало, по звонким плитам церкви глухо разносились его и Евгении Борисовны шаги.
Наверху мелодично, нежно и так печально пел хор: "Свете тихий".
И "Свете тихий", и "Слава в вышних богу" были любимыми напевами Карташева.
Его охватило с детства знакомое чувство, - бывало, маленький он так же стоял и прислушивался к этим мотивам, тихо и торжественно разносившимся по церкви. А сквозь облака ладана, прорезанные косыми лучами солнца, строго смотрели образы святых.
Пение кончилось.
Подняв голову, Карташев рассматривал образа на куполе.
Всё там, на том же месте, и тот рядом с головой быка, и тот другой, пашущий, и все они вечные, неподвижные при своем деле. И те там вверху были, конечно, чистые и сильные; не они виноваты, во что превратилось их учение; все то, о чем на каждом шагу Христос твердил:
- Понимайте в духе истины и разума!
А свелось к тому же языческому, к тому же идолопоклонству, к грубому мороченью, эксплуатации, уверению в том, чего никто не знает, не может знать и что в конце концов так грубо, грубо.
И, несмотря на то, что часть общества уже вполне сознательно относится к суеверию, сколько еще веков, а может быть, и тысячелетий, сохранит человечество эту унизительную потребность быть обманутым, дрожать перед чем-то, над чем только стоит немножко подумать, чтобы все сразу разлетелось в прах. Хотя бы то: где все эти бородатые боги заседают, на какой звезде, на каком куске неба и что такое это небо? Географию первого курса достаточно знать. Отчетливо конкретно представить себе только это - и точно повязка с глаз спадет, и сразу охватит унизительное чувство за этих морочащих, и хочется сказать им:
- Идите же вон, бесстыдные шарлатаны.
И Карташев уже сверкающими злыми глазами смотрел на стоявшего на амвоне священника.
"Лучше в сад уйду", - подумал он и вышел из церкви, как раз в то время, как туда хотела войти Маня.
- Не застала дома, - сказала она, - ты куда?
- В сад.
Маня пошла с ним, и он говорил ей:
- Иногда так наглядно, так осязательно чувствуешь всю комедию и ложь религии, что сил нет выносить охватывающее тебя унижение.
Он сел на садовой скамье.
Маня была задумчива.
- Как тебе понравился Савинский?
Отрываясь от своих мыслей, она рассеянно ответила:
- Он очень интересный, наблюдательный, умный и начитанный.
- Ты как относишься к его возражениям?
Маня пожала плечами.
- Несомненно, что мы очень мало обращаем внимания на образование. И может действительно случиться, раз прицел неправилен - ошибочен и выстрел; в данном случае жизнь пойдет насмарку, даром пропадет. А жизнь одна - и хотелось бы использовать ее как можно правильнее. А с другой стороны, что-то роковое идет, так идет, что захватывает, тянет. Знаешь, я думала о тебе. Нет, ты в нашу компанию не залезай, не торопись. Перед тобой такой путь, который рано или поздно, а откроет тебе глаза, и тогда уже иди сознательно, проверивши, имея возможность проверить, а мы ведь, собственно, лишены этой возможности. Мне кажется, новая жизнь будет длиннее нашей. Ты как-то не торопишься жить, ты старше меня, а ребенок еще во многом. Поздно развиваешься, растешь. И расти. Если б еще жена тебе попалась хорошая. С тобой можно говорить на эту тему?
- Говори...
- Лучше Аделаиды Борисовны не найдешь, Тёма.
- Я знаю.
- Если знаешь, то зачем же ты тянешь?
- Видишь, если говорить серьезно, то теперь мне кажется, это более достижимо, чем было тогда. Я теперь инженер, эта дорога по мне, уже теперь я получаю две тысячи четыреста рублей в год. Говорят, чуть ли не такую же и премию дадут. Таким образом, и себя и жену я смог бы содержать. Теперь, конечно, горячка будет строительная, ведь в сорок пять дней решено выстроить двести восемьдесят верст. По быстроте постройки это будет первая в мире дорога...
Служба кончилась. С Аглаидой Васильевной вышли и мать Наталия, и красавица послушница.
Мать Наталия рассыпалась в поздравлениях, а послушница молчала и загадочно и смело смотрела своими глазами на Карташева.
Смотрел на нее и Карташев, и хотелось бы ему заглянуть на мгновенье в ее душу, чтоб узнать вдруг все ее сокровенное.
А мать Наталия, очевидно, совсем не хотела этого и торопливо-почтительно стала прощаться.