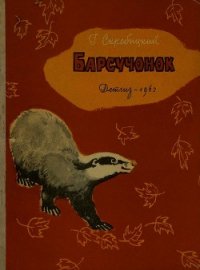От первых проталин до первой грозы - Скребицкий Георгий Алексеевич (книги полностью .TXT) 📗
Хорошо, а как же быть с хвостами? Наконец после долгих усилий я придумал — «задраты».
Конечно, написать можно, но как-то это нескладно. Допустима ли такая вольность ради рифмы? Я был неуверен. Можно, правда, написать «задрались», тогда будет всё правильно, но зато не получится рифма к слову «коты». Я оставил первый вариант и написал всё четверостишие:
Прежде чем продолжать дальше, я решил всё-таки посоветоваться с мамой насчёт сомнительного положения с хвостами.
К моему удивлению, мама, всегда так хвалившая все мои стихи, вдруг сказала, что эти ей совсем не нравятся и что они даже неприличны.
Я недоумевал: что же в них неприличного?!
Ещё обиднее отозвался о них Михалыч. Услыша мои стихи, он громко расхохотался и, хлопнув меня по плечу, сказал:
— Эх, брат, у вас у всех хвосты «задраты»!
«У кого у нас у всех? Какие хвосты?» Я терялся в полном недоумении.
Но хуже всего было то, что ни мама, ни Михалыч не поняли самого главного — ведь эти стихи должны были отразить всю радость наступления весны. А мама нашла их неприличными, а Михалыч вовсе смеялся. Было больно сознавать своё творческое бессилие. В душе жило одно, а на бумаге получалось совсем иное.
Помню ещё и другое своё стихотворение, которое я написал в эти же дни. Сочинить его помог мне тоже предвесенний поединок котов. Его я запечатлел в следующих строках:
Здесь дерутся два кота, Лихо состязаются: Один залез на ворота, Другой за ним бросается.
Стихи, по-моему, вышли неплохие. Вот только «ворота» портили всё дело ударение не там, где ему полагается. Я приходил в отчаяние, не мог понять, почему именно в стихах ударение обязательно попадает не туда, куда следует. Спросил об этом у Михалыча. Он чуть-чуть улыбнулся и ответил:
— Совсем необязательно. Например, в стихах у Пушкина оно попадает куда следует.
— Значит, стихи Пушкина лучше моих, — с горечью ответил я.
— Пожалуй, немножко получше, — охотно согласился Михалыч.
В общем, со стихами дело у меня не клеилось; я и сам начинал в этом убеждаться.
«Ну что ж, стихи не выходят, нужно попробовать написать какой-нибудь рассказ».
Я достал чистую тетрадь и принялся писать в ней рассказ об охоте.
К сожалению, на охоте я ещё никогда не бывал и все сведения о ней черпал из рассказов Михалыча и из книг Брема, дополняя всё это собственной фантазией».
Свой первый рассказ я написал об охоте на барсука. Закончил его я страшной сценой: раненый барсук стрелой взлетает на дерево, где затаился в засаде охотник, и там, на вершине, завязывается кровавый бой. Зверь победил. Растерзанный охотник падает мёртвым на землю. Но и барсук тоже смертельно ранен кинжалом в грудь. Он тоже падает мёртвым. Так трагично кончался мой рассказ.
Я прочитал его маме. Успех был полный. В самом напряжённом месте, где рассвирепевший зверь вонзает зубы в горло охотника, мама даже всплеснула руками и прошептала:
— Как страшно!
А я, замирая от восторга, зловещим голосом продолжал читать кровавую сцену.
Когда я кончил, мама поцеловала меня и сказала:
— Очень хорошо! Поди почитай Михалычу.
Заранее предвкушая своё торжество, я вбежал к нему в кабинет и скромно попросил разрешения прочитать небольшой рассказик. Михалыч согласился.
Я начал читать, изредка украдкой поглядывая на своего слушателя.
По мере того как развивалось действие рассказа, лицо Михалыча принимало всё более и более заинтересованное, даже удивлённое выражение. Он несколько раз, видимо, хотел что-то спросить, но сдерживался, очевидно желая дослушать всё до конца. И вот под самый конец, когда я сам, захваченный трагизмом событий, читал кровавую сцену на дереве, Михалыч вдруг не выдержал и расхохотался.
Я онемел от изумления: над чем же он смеётся? А Михалыч, вытирая платком глаза, сказал наконец:
— Ой, брат, ну что ты только городишь! Барсук ведь — это самый безобидный зверёк, толстый, неповоротливый, на поросёнка похож. Он и на дерево-то залезть не может. Какую чушь ты придумал!
Я не знал, что отвечать. Чувствовал только, что сейчас разрыдаюсь: так было больно и так обидно.
Михалыч ещё что-то спросил, но я уже не мог говорить, только махнул рукой и выбежал из кабинета.
Прибежал к себе в комнату, схватил книгу Брема, и тут всё выяснилось: я спутал толстого увальня барсука с кровожадным барсом. Какая ошибка! Зачем учёные дали столь различным зверям такие похожие названия: барсук и барс? Думаю, не я один мог бы их перепутать.
Свою невольную ошибку я переживал очень болезненно.
Весь рассказ мне сразу опротивел. Я разорвал его, выбросил в печку и после этого дал себе клятву никогда в жизни больше не писать ни рассказов, ни стихов.
ПЕРВАЯ ПЕСНЯ
В душе Михалыч был большой непоседа. Ему вечно хотелось переехать жить куда-то подальше, в другое место: то на юг, то на север, то на восток… Он выписывал медицинский журнал и, когда получал свежий номер, прежде всего заглядывал на последнюю страницу. Там печатались приглашения врачей на работу.
— Эх, братцы мои! — мечтательно говорил Михалыч. — Сколько хороших мест! Вот, например, приглашают врача-хирурга под Иркутск. Махнуть бы туда! Тайга, Байкал… Какая рыбалка, какая охота — медведи, лоси, глухари!..
— Это что же, в Иркутск приглашают? — осведомлялась мама.
— Нет, не совсем, но где-то там рядом, — уклончиво отвечал Михалыч. И тут же добавлял: — Если вы, мадам, этим серьёзно заинтересовались, мы сейчас же всё точно установим.
Михалыч доставал из книжного шкафа большой географический атлас и начинал водить пальцем по карте, где был изображён район Байкала. Мы с Серёжей не отрываясь следили за движением пальца но таинственным значкам на листе бумаги, изображавшим горы, реки, озёра. Наконец Михалыч находил то, что искал.
— Вот оно!
— Ну что ж, это рядом с Иркутском? — спрашивала мама.
— Ну, как тебе сказать, не очень, конечно. — Михалыч прикидывал по масштабу. — Вёрст полтораста в сторонку. Но зато в самую глушь тайги. Боже, какие там, наверное, места!
— А железная дорога туда подходит? — допытывалась мама.
— Ах, оставь, пожалуйста! — негодовал Михалыч. — Тебе обязательно нужно, чтобы железная дорога под боком была. Там и без этого отлично люди обходятся. Кибитка, подвесной самовар, и летишь на перекладных через долины, через увалы. Кругом простор!..
— А как же ребят учить? Уж в Черни гимназии нет, а там, наверное, вообще никакой школы!
— Да, вот с этим, должно быть, туговато, — грустно вздыхал Михалыч. — Ну что ж, если это место не подходит, поищем другое. Да вот хоть, к примеру, под Астраханью, в плавнях Волги. Чем не житьё? Кругом болотные топи, заросли, целые моря камышей. А в них гуси, утки, пеликаны… Одной охотой прожить можно.
Мама слушала и только покачивала головой:
— Ох уж мне эти планы, проекты…
Правда, дальше планов дело не шло, и мы год за годом безвыездно жили в Черни.
Собственного домика у нас не было, мы снимали чей-нибудь на несколько лет. Так мы за всю жизнь в Черни переменили три квартиры. Вначале жили у самой реки, потом переехали в домик напротив земства, а когда его продали другим владельцам, переселились в такой же одноэтажный дом, возле церкви Николы. В нём мы прожили около десяти лет; в нём прошло всё моё детство. Этот дом я вижу и сейчас, как наяву, с его небольшими уютными комнатками, с белыми изразцовыми печами, с керосиновой лампой, висящей над обеденным столом, с неторопливым тиканьем старинных стенных часов.
Сразу за домом был просторный зелёный двор, а дальше — старый, заглохший садик. Наверное, он был совсем невелик, но в детстве казался мне огромным и даже таинственным, особенно зимой, когда сплошь был завален снегом.