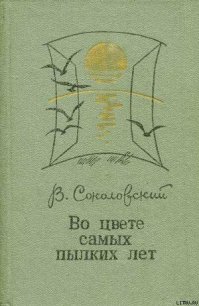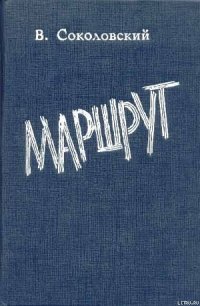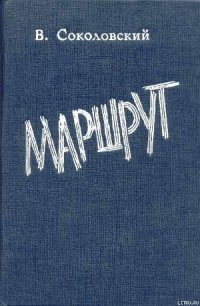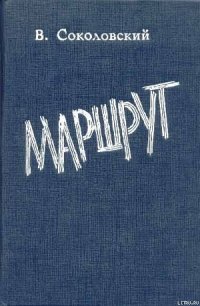Мальчишки, мальчишки... - Соколовский Владимир Григорьевич (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
— Папка! Ты что, папка-а?
Под окном заржала лошадь. Кто-то глянул на улицу и сказал:
— Вот и телега по Игнашу приехала. Давайте посидим с ним в последний раз да и станем выносить…
Провожающих собралось немного, вместе с ребятами — человек десять. Генька сидел на телеге, болтал ногами.
А когда вернулись с кладбища и сели за убогий стол, низенький сухой старичок, сослуживец покойного по отделу охраны, сказал так:
— Проклятая война! Это она убила Игнашу. Будь другое время — разве мы допустили бы, чтобы человек почти до смерти на работу ходил? Отправили бы его на курорт, в санаторий, а то и просто в деревню — молочка попить, на солнышке погреться, по лесу походить. Или на все лето — баянистом в пионерлагерь. Что сейчас говорить! Зубы крепче сжать да дальше…
— Эх-ха! — ударил кулаком по столу молчаливый сосед. — Сколоть бы его от Сталинграда, осиновый бы кол ему в глотку! Бьет и бьет и по фронту, и по тылу — одна зараза! Это солдат падет, к примеру, на фронте, а дома-то ведь семья у него, ей каково теперь будет — вот и подумай!
Провожавшие посидели немного, распрощались с Зойкой и ушли. Женщины убрали со стола и тоже исчезли. Остались ребята: Зойка, Валька, Пашка да малолетний Генька. Генька шумел, бегал, и Пашка выгнал его на улицу, играть с малышами.
Как пусто стало в комнате! За время болезни отца Зойка, чтобы подкормить его, продала самовар, шифоньер, маленький диванчик, кой-что из одежи — своей и Игнатовой, много посуды. Ничего почти не осталось теперь, только стол, кровать да табуретки, и те не все свои, половину надо тащить по соседям, отдавать обратно. Скучно! Скучно, тоскливо.
— Дай-ко мне, Зойка, баян! — попросил Пашка. — Поиграю. Надо поиграть, а то тяжко чего-то… Давит. Может, и вам маленько полегче станет.
— Ох, Паша! Баян-то ведь продала я.
Вот тебе на! Продала и баян. А он думал — стоит себе под кроватью, задвинутый на время суеты. Значит, не осталось здесь, в этой комнатке, ни души дяди Игната, ни его дыхания…
— Баян-то уж, Зойка, можно было и не продавать, наверно?
— Зачем он мне? Я больше здесь жить не собираюсь. Что его с собой таскать? Деньги будут — новый куплю.
— Так ты уходишь отсюда, что ли?
— Конечно! Пойду в ремесленное, с девчонками в общежитии буду жить. Там веселее. А тут что? Возись с этим домом, одних дров не напасешься. В школу мне теперь все равно не ходить — на что жить-то? Ты не представляешь, как мне сегодняшние поминки дались. Соседи помогли, спасибо, так ведь все равно — то надо, другое надо. До баяна ли?
— Зойка, Зойка! Тяжело тебе придется, девка. Работать-то ведь тяжело. Ну, ты ничего, нос не вешай. Мы вон с Валькой тоже работаем. И правильно, что в ремесленное идешь. У нас паек хороший, лучше рабочего. До свиданья, Зой. Жалко дядю Игната, а что поделаешь? И тебе тоже ничем не могу помочь.
— Что ты, Паша! Кто мне сейчас поможет, да и можно ли? Пришел, проводил папку — и ладно, спасибо. До свиданья! Хоть мне приглашать тебя больше и некуда будет. Ну, да в одном городе живем, может, еще и свидимся!
Замерзшего на улице младшего брата Пашка отогрел в Валькиной квартире. Налил ему горячей воды в кружку, сунул взятый на поминках пряник: «Лопай, озорник!» Валька попросил дождаться его, пока он переоденется в рабочее.
— Так ведь рано еще на работу-то! — удивился Пашка. — Куда тебя несет? Сидел бы да сидел еще дома целый час.
— Да это… надо мне в одно место, понимаешь?
— В какое место?
Друг конфузился, помалкивал. Только когда они дошли до спуска и Валька не свернул налево, к заводской лестнице, и не двинулся наискосок, чтобы выйти к площади 1905 года, а намерился отправиться дальше, вдоль по Уральской, в Пашкиной голове зародилось смутное подозрение. И, чтобы проверить его, он тоже пошел с Валькой, хоть им и не было по пути.
У отворота на улицу Грачева Валька крикнул:
— Ну, пока! — и хотел оторваться от друга. Да не тут-то было!
— Эй, молодой! К сиротинке ленинградской пошел? Завлекли парнишку? Как это она пела: «Дочь капитана Джин Грей, прекрасней ценных камней… и заглушая печаль, гремел разбитый рояль…» Вот для кого старалась! Я понял! И понял, для кого ты у Зойки пряник в газетку заворачивал!
Валька побледнел, выпучил глаза. Наскоком, боком, словно петух, он стал приближаться к Пашке:
— Тебе жалко, да? Тебе жалко, да? Она ленинградка, блокадница, в чужом месте… тебе жалко, да?
— Во-первых, мне не жалко, — заливался Пашка. — Во-вторых, ты успокойся, не прыгай. В-третьих, была она когда-то ленинградкой, да. Так ведь это давно было! Теперь она никакая тебе не ленинградка, а наша мотовилихинская девушка. А насчет того, что блокадница, так они там все, в этом детдоме, такие. И кормят их всех одинаково, как положено. А ты ей пряники с чужих похорон таскаешь.
— Да ты чего разоряешься-то? — Валька даже растерялся, до того его поразила Пашкина речь. — Я что, этот пряник — украл у кого-то, что ли? Сам ни одного не съел, если хочешь знать, чтобы ей с братом принести!
Пашка и сам не мог понять, чего это он так разозлился. Но злость не проходила. Ишь ты, какая хитрая оказалась красотка Джин Грей! Так вот и получается: сначала кока Дима ушел на фронт, потом умер дядя Игнат, да и Зойка исчезает с горизонта, а теперь еще — Валька предает дружбу ради какой-то заезжей цыпы-дрипы!
— Ууххх!..
Пашка растопырился ежом, хотел уже заехать лучшему другу в нос, но опомнился: неудобно при Геньке, подумает — что это они дерутся, словно пьяные мужики? Еще перестанет уважать. И все-таки они идут с похорон, надо быть в таких случаях постепеннее, как-никак, хоронили хорошего, доброго человека. А через час смена, неудобно показываться в цехе исцарапанным, с синяками? Лучше уж подраться с Валькой как-нибудь перед выходным. А за выходной синяки можно прекрасно свести голодной медью.
Пашка окинул еще раз взглядом замершего напротив в боевой стойке друга, сплюнул ему под ноги и пошел своей дорогой. Только бросил на прощанье:
— А прозывать тебя буду — Матрос-Гарри-без-слов! Понял? Смотри, не замарай ее, фифу, кавалер в комбинезоне!
И заорал на всю улицу:
Перед Октябрьскими праздниками получили письмо от Димы:
«Прошли пешком 176 километров. Снаряды рвутся за нашей деревней Мазенка. Утром идем в бой. Мы, мотовилихинские, держимся вместе: я, Миша Косогов с электроцеха, Саша Любов с мартена, Коля Будашкин из ОГМ, еще другие ребята. Немец разит, но и мы сейчас прем не хуже, хоть война и другая, чем я думал».
Дальше шли приветы.
Пашка носил письмо с собой, показывал знакомым, говорил:
— Ну, фриц, теперь тебе по горбу-то нащелкают! Наши мотовилихинские ребята тебе спину-то вымоют!
Прошли праздники, и наступила зима. Замерзла грязь на улицах, повалил снег, ветер раздул его — стало вьюжить, пуржить. Бежишь на работу из тепла — а ветерок прохватывает, лезет за воротник, холодит стриженую голову. Шапка-то — рыбий мех! Если же пришел домой, то сразу — «кипяточку, мамка, налей скорее!» Обхватишь ладонями жестяную кружку — ох, хорошо-о… Кружка жжется, успевай только перехватывай.
Холодно, темнеет рано, светает поздно — словом, зима. Привезут в цех пушки с полигона, с опробования, тронешь металл, и если палец или ладонь влажные — мигом прихватит, оторвешь — оставишь лоскуток кожи. А в рукавицах не ко всему можно подобраться, приспособиться.
Как-то старший мастер пролета сказал:
— Пал Иваныч, зайди к начальнику цеха после смены. Что-то у него дело к тебе.
Сергей Алексеевич Баскаков был краток:
— Распишись-ко, брат Корзинкин, за две хлебных карточки. Одну даем тебе за ударную работу, другую — за то, что у вас в семье два фронтовика, оба наши, заводские. Иди, корми свою оравушку.