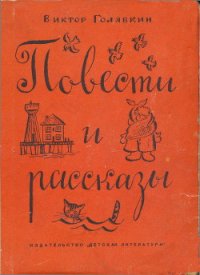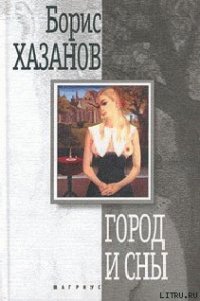Мой марафон - Хазанов Юрий Самуилович (список книг .TXT) 📗
— Сторож я,— сказал старик.— А ты чей? Беспризорный, что ли? Нет их сейчас вроде... Из детдома убёг? Говори!
— Нет,— сказал Митя.— Я так.
— Чего так? — закричал старик.— Это разве дело — убегать?!
— Я не убегал,— сказал Митя,— я просто шёл, а потом заблудился... Я первый раз в этих местах... Понимаете?
Он ещё что-то молол в этом роде, потому что ему приятно было поговорить с живым человеком впервые за столько часов.
— Да ты вот кто, я знаю,— сказал вдруг старик.— Ты доктора приезжего сынок. Отец-то весь посёлок обходил-объездил, тебя ищучи.
— Никакого не доктора,— сказал Митя.— Откуда вы взяли? Я совсем из другого города.
— Ну ладно, ладно,— сказал старик.— Пойдём в контору, обогреешься. Чайком угощу. Чего здесь в грязи-то лежать? Вставай!..
Митя сидел в конторе, слушал, как закипает чайник на электроплитке, жевал хлеб с колбасой и чувствовал, что сейчас так прямо и заснёт — с куском во рту. Но он всё-таки выпил чая, обжигаясь и торопясь, и потом завалился на топчан. Последнее, что он слышал, уже засыпая, были слова старика: «Спи, спи, а я посторожить пойду...»
Ему казалось, что он и глаз не успел сомкнуть, как его начали расталкивать. На этот раз Мите проснуться было куда трудней, чем там, в недостроенном доме. Он долго вертелся, пытался спрятать голову в подушку, отворачивался к стене. Но руки, которые его расталкивали, были какие-то очень знакомые, а потом сквозь навязчивую дремоту до него долетел и голос, который он не мог не узнать. Это был папа.
...И вот они едут домой в санитарной машине. Мите снова совсем не хочется спать, и он думает о том, что папа какой-то странный и добрый: ни о чём не спросил Митю, не ругал, как будто сам про всё знает — и отчего Митя удрал, и что письмо придуманное...
В темноте Митя нет-нет да начинает пристально вглядываться в папино лицо, словно хочет, чтобы тот догадался, какой вопрос мучает сейчас Митю.
Догадался папа или нет, но он вдруг повернулся к Мите и сказал:
— Да, брат, вот оно как получается: ты обманешь, тебя в ответ обманут — и пошла писать губерния... Цепная реакция, брат.
БЕЛАЯ ВОРОНА
Мишу в этом классе не любили. Но всё равно, когда пропали деньги, почти никто не хотел верить, что это он взял. И только уж когда Звягин рассказал о том, что сам случайно увидел, когда вспомнили про кино, и особенно после истории с ключом,— тут уж хочешь не хочешь, а пришлось поверить.
Ребята называли Мишу «Ворона», хотя фамилия его была не Воронов и не Воронин, а Новиков. Прозвище пошло оттого, что учительница как-то сказала: «Ты в классе как белая ворона — все заодно, а ты отдельно...»
И правда, всё ему нужно было делать не так, как другие. Если идут на стадион или в музей, он обязательно плетётся сзади или по другой стороне. Если все дразнят Зотова и не любят его, он нарочно так разговаривает с ним, как будто Зотов никогда не был ябедой и плаксой. А вот Лену все уважают за то, что она справедливая, умная и вообще... косы у неё очень длинные, а Миша с ней слова не скажет и книжку ей не дал, которую она попросила, а назло, при всех, отдал Зотову. И подсказывать никому не любит — отвернётся, как будто не слышит. Звягин больше всех на него за это злился.
Класс у них очень дружный: всегда все голосуют «за», лишь один Миша— «против» или «воздержался». Недавно учительница предложила вывесить списки двоечников прямо на улице, в витрине магазина, а Миша — против. На сборе звена решили все вместе пойти к родителям Моргунова и рассказать, какой плохой у них сын,— Миша опять против! Даже в театре он умудряется сидеть не со всеми, а ряда на два ближе...
«Единоличник»,—сказала про него Лена.
Но пожалуй, больше всех не любила его Таня. Трудно порой объяснить, откуда берётся неприязнь. Таня его почти не знала, а ей уже не нравилась его походка, и то, что два передних зуба у него больше, чем остальные, и как он отвечает у доски, склонив голову немного вправо.
А чем больше она его узнавала, тем сильней становилась её антипатия. К «белой вороне» и к «единоличнику» Таня добавила и «задаваку», и «подумаешь, какой герой выискался», и ещё несколько не очень лестных характеристик.
Временами Таня была готова даже согласиться с Мишей — например, когда он говорил, что не будет заводить «Тетрадку моей совести». Это им классная руководительница велела. Миша тогда сказал, что свои мысли не обязан никому показывать да ещё отметку за них получать... Таня думала так же, и ей хотелось поддержать его, но посмотрела она, как склонил он голову немного вправо, услышала его противный самоуверенный голос, увидела, что никто из ребят не говорит против тетрадки, и промолчала. Правда, с этой тетрадкой всё равно ничего не вышло. Почти никто не завёл, хотя против был один Миша.
В эти весенние каникулы их класс на несколько дней поехал в Архангельск. Экскурсию устроил учитель истории Григорий Григорьич. Он и сам поехал с ними. Не все, конечно, ребята были на экскурсии — некоторых не пустили, другие не захотели, Зотов с отцом в Ленинград уехал. Но что больше всего удивило Таню — «единоличник»-то вдруг попросил записать его и деньги внёс на билет один из первых!
Но уже на вокзале, где уговорились встретиться утром за полчаса до поезда, Миша проявил себя, как всегда, как белая ворона: опоздал на двадцать минут, пришёл вразвалочку; у всех ребят вещевые мешки, а у него чемодан — скажите пожалуйста, интурист какой!.. Ни с кем не поздоровался... Звягина толкнул, когда в вагон садились...
Об этом обо всём и многом другом Таня говорила Лене, когда поезд тронулся, и они сидели в вагоне и смотрели в окно.
Поезд шёл. Проехали ещё какую-то станцию, склад. У его дверей горела яркая лампочка, а над ней свисали с небольшого абажура ледяные сосульки... И это была уже не простая электрическая лампочка в 100 ватт — это была драгоценная хрустальная люстра.
— Белый день освещают,— сказал кто-то.— Темно им!
А день, хотя и не требовал такого освещения, был и правда не слишком яркий. Небо висело низко и было словно из тяжёлого серого мрамора с белыми прожилками. А на мраморном фоне темнели деревья, дома, столбы высоковольтных передач. Столбы стояли, как огромные модницы — они ещё с вечера накрутили свои прямые волосы на изоляторы-бигуди да так и позабыли снять. В лесу и на полянах лежал глубокий снег, но южные склоны, где он почти уже стаял и где показалась прошлогодняя трава, были похожи на небритые щёки великана...
Проехали Исакогорку — это уже пригород Архангельска. Вот и мост через Северную Двину; отсюда видно её ледяное устье, открывающее путь в Белое море. Сам Архангельск вытянулся по правому берегу километров на шестьдесят, а в поперечнике хорошо, если два-три километра наберётся.
Ребята вышли на небольшую привокзальную площадь: Григорий Григорьич убедился, что никто не отстал, и все двинулись на проспект Ломоносова. Там среди множества каменных и деревянных домов, окаймлённых пружинистыми дощатыми тротуарами, стояла школа, где для них были приготовлены классы под жильё.
И начались дни беспрерывного хождения по городу. Григорий Григорьич поставил условие — на трамвай и в автобус не садиться! Всюду пешком. И не только по коротким поперечным улицам, а и по длиннейшим продольным — по проспектам Павлина Виноградова, Ломоносова, вдоль набережной Ленина. Они даже добрались пешком до речки Кузнечихи, перешли мост и очутились в большом районе, под названием Соломбала. Тут много заводов, фабрик и одиннадцать тысяч километров деревянных мостовых.
Григорий Григорьич рассказывал, что название Соломбала толкуют по-разному. Не то пошло оно с тех времён, когда Пётр I устроил здесь бал на соломе, не то он же произнёс по случаю постройки Архангельска такие слова: «солон бал», то есть, мол, солоно пришлось,— город ведь, как и Ленинград, стоит на болоте...
Всё время у ребят было занято прогулками, осмотром музеев; побывали в театре, даже на рынке. Григорий Григорьич говорил, что и это необходимо, если хочешь понять колорит города. Возвращались такие усталые, что сразу бухались в постель. Да и во время хождения было не до распрей, и Таня совсем забыла о своей неприязни к Мише, даже разговаривала с ним о чём-то, и он отвечал нормально, как человек, без всяких своих штучек.