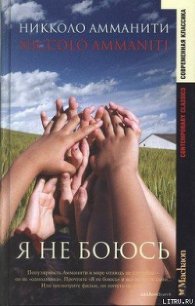Я догоню вас на небесах - Погодин Радий Петрович (читаемые книги читать .TXT) 📗
- Когда ты вспоминаешь блокаду, что тебе вспоминается прежде всего?
- Я ее не вспоминаю, - сказал он. - А когда под нажимом таких, как ты, заставляю себя, то вижу очень яркую осень. И сады, где красивые люди с противогазными сумками через плечо роют траншеи - щели, так их называли чаще. И толпы людей под репродукторами. Выражение у людей такое, будто им показывают фокусы, но скоро фокусы кончатся, и наступит радость. Оскаленных от голода женщин, везущих куда-то на санках своих мертвецов, я не видел, я уехал раньше. Это, старик, мифология, хоть это и подлинная чистейшая правда.
Блокада пока не тема искусства. Событие слишком растянуто во времени, а показать его нам надобно сразу, и воспринять его нужно в миг единый, как воспринимаем мы целиком всю жизнь и смерть могучего, засохшего на корню дерева. Нужен завтрашний гений, нужны завтрашние - открытые настежь архивы и "неудобства", которые испытывал от блокады Жданов: запор, гастрит, колит, кислород в задний проход для поддержания микрофлоры...
- Как был трепачом... - сказал я.
Но он возразил грустно:
- Нет, - сказал, - трепачом я как раз и не был.
Осень в Ленинграде действительно стояла яркая. Народ одевался чисто. Девушки ходили по моде в маленьких красных беретиках. Беретики почти облегали голову, слегка морщинясь по окружности. В глазах у всех стоял гордый голод.
На фабрике-кухне - угол Большого проспекта и Косой линии - в тот день без карточек давали морковные котлеты, две штуки, тонкие, как оладьи, и маслянисто-прозрачные, уж и не знаю, как этот эффект у них получился, такие на вид вкусные. Я выстоял очередь и, взяв тарелку с котлетами и вилку, пошел к высокому мраморному столу. Тогда еще не принято было есть стоя, но высокие мраморные столы стояли для тех, кто брал обеды на дом, действия с судками и кастрюльками были предусмотрены: фабрика-кухня, будущее госнарпита, обещала освободить женщину-труженицу от плиты и примуса; в блокаду эта идея казалась людям неостроумной и, мягко говоря, преждевременной.
Я хотел проглотить морковные котлеты тут же по-быстрому и, погасив голодный блеск в глазах, со вкусом и не торопясь похлебать щей и жидкой чечевичной каши.
У столика стояла женщина в красном берете. Я поднял на нее глаза это была тощая улыбающаяся Наталья. Вид у нее был веселый, даже ошеломляющий, наверно, из-за беретика, надетого по-шальному сильно набок. Короче, так: веник ее волос торчал с правой стороны, беретик лепился с левой. А сама она улыбалась посередине.
- Привет, капитан, - сказала. - Похоже, предстоит могучая диета. Но, спрашивается, зачем мне худеть, я же как балерина или как птичка. Не дали, черти, котлет для девочек.
Я сбросил со своей тарелки котлеты в ее кастрюльку.
- А ты? - спросила она, вскинув брови. - Ты обедал уже?
- Нет еще.
- Тогда возьмем шамовку и пойдем к нам. Дома поедим как люди.
Мы взяли еду в ее судки, и на девочек тоже - по детским карточкам кроме щей и чечевицы полагался добавочно манный пудинг с лиловой подливкой.
Тогда еще к щам давали тоненький кусочек хлеба: щей можно было взять две порции, но хлебушек только один, из-за чего интеллигентным женщинам с бледными губами не всегда удавалось сдержать слезы.
И тут я понял, почему Натальин вид показался мне ошеломляющим: не только из-за беретика - у нее были ярко накрашены губы, ресницы и ногти.
- Назло врагу, - сказала она. - Пусть Гитлер сдохнет!
Мне стало весело.
Девчонки повисли на мне, как на воротах. Тут же показали пушку. Это была настоящая бронзовая мортирка. Может быть, в праздники из таких мортирок запускали в ночное небо огненные букеты.
- Мама сказала - за порохом дело не станет. Если фашист придет, мы зарядим пушку и - прицел сто, трубка сто - от Гитлера только вонь пойдет.
Четыре кулака замолотили по моему животу.
- Перестаньте, капитан еще не обедал, - сказала Наталья, ухмыляясь. Распоясались.
Девчонки перестали по мне молотить, к слову "обед" они уже научились относиться серьезно. Впрочем, за обедом они болтали и толкались.
- Приходи, - сказала Наталья, проводив меня до дверей. - Нам с тобой хорошо.
- И мне с вами.
Она обняла меня.
- А ты не такая тощая, - сказал я.
- Не такая. Вообще я вся не такая.
К шестнадцати годам уже накапливался опыт случайных столкновений и объятий с девочками. В основном это случалось во время игр или когда в коридоре устраивали кучу малу. Или во время танцев - ох как мало мы тогда танцевали!
На Новый, 1941 год мы, вырядившись во взятые напрокат мушкетерские костюмы, пытались прижимать девочек к груди. Может быть, и им этого хотелось, но этикет не позволял.
Я шел от Натальи, и мысли, как мне тогда казалось, были у меня нехорошие. Для меня была она как бы не взрослая женщина, но и не ровня. На семь лет старше!
Мамин рыжий летчик был на семь лет младше мамы. Любовь у них была, как сейчас говорят, - зашибись! Я знал, когда мне уходить из комнаты, облегчал им жизнь как мог. Прожили они шесть лет. Мама с ним развелась. Говорила, что, мол, не хочет от него детей, а он настаивает. По ее словам, не хотела она потому, что, если бы родила, привязалась бы к нему, а он, черт, стал бы относиться к своему ребенку лучше, чем ко мне.
"Это зачем же я буду из-за какого-то рыжего кобеля своего ребенка обрекать?!" - выкликала она с большим напором в кухне перед соседями и подзывала меня, чтобы погладить по голове. В такие минуты мне бывало стыдно. Рыжий летчик относился ко мне хорошо. На свою первую Первомайскую демонстрацию я выехал на его плечах. Он купил мне маленьких книжек с картинками, о существовании которых я, правда, вскоре забыл. Он говорил мне: "Если у мамы родится сын или девочка, мы будем относиться к ним, как подобает мужчинам, сдержанно и щедро. Ты согласен?"
Я был согласен.
Первая женщина моего брата тоже была старше его на семь лет. Она работала кассиром в таксопарке. Была веселая. "Водила компанию с шоферней" - это мамино выражение. "Интересная ты, Изольда, баба, тебе нужен интеллигентный мужик, с образованием, а не шоферня эта..."
Мама и попросила Изольду соблазнить Колю, чтобы не втюрился сглупа, дурак, в какую-нибудь курицу или проститутку. Чтобы с него первый пыл сошел и он огляделся бы вокруг и полюбил сердцем. Обе они, и мама, и Изольда, хотели, чтобы их кто-нибудь полюбил сердцем. Рыжий летчик, так считала мама, сердцем ее не любил: "Кобель. Только и знал одно. Я от него за шесть лет одиннадцать абортов сделала".
Изольда согласилась соблазнить моего брата, как мне показалось, легко и даже радостно. Они с мамой меня не видели. Они пилили дрова, а я с товарищем моим, Маратом Дянкиным, загорал на крыше сарая.
Изольду я сразу возненавидел. И вознегодовал! Мне, конечно, не терпелось все рассказать Коле, чтобы он гордо и гневно бросил бы Изольде при встрече фразу, что она, мол, падшая.
Придя вечером домой, я застал брата Колю и Изольду целующимися. Вот это темп. Брат был красен. Пунцов!
- Закрываться надо, когда целуетесь, - сказал я.
- Ах ты хмырик, - сказала Изольда. - Стучаться надо.
- Еще что - я тут живу!
Изольда вытолкала меня в коридор и заперла дверь на ключ.
- Я маме скажу! - заорал я.
- Говори-говори, - засмеялась Изольда.
Брата мне было жаль. Но еще более жалел я, что не сказал он гордо Изольде - "Падшая!" Это я ей сам сказал, когда она проходила мимо меня в парадной. Она остановилась, лицо ее омрачилось на миг, но тут же снова приняло веселое выражение.
- Сам дурак, - ответила она мне.
Я бросился домой. Сказал брату:
- Тебе не стыдно?
- Вот я и размышляю, - стыдно мне или нет, - ответил брат. И с того дня он стал что-то от меня утаивать.
Когда я устроился на работу в таксопарк, Изольда выдавала мне зарплату и продуктовые карточки и всегда улыбалась мне даже в самые трудные дни. Тогда мне, обессиленному, с иссохшей кожей, осыпающейся из рукавов, которые я специально перетягивал резинкой, чтобы не трусить эту перхоть на чужие одежды, казалось, что в громадном гараже, гулком и темном, живет только закутанная в платки Изольда, и на весь гараж, где когда-то ревели моторы, тепло шло только из кассы, от ее керосиновой лампы.