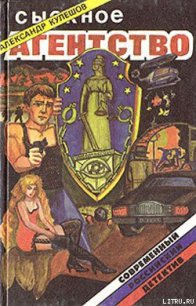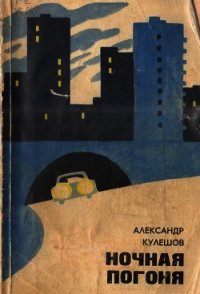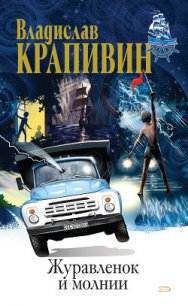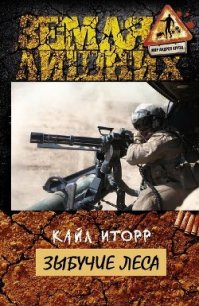Голубые молнии - Кулешов Александр Петрович (электронная книга txt) 📗
Все это пронеслось в мыслях со скоростью, не доступной никаким электронным машинам. Солидная, обоснованная, неоспоримая аргументация! А жалкий, наипримитивнейший инстинкт самосохранения оказался сильнее. И высоко интеллектуальный, волевой (в требованиях к маме), решительный (в своих действиях с девушками) Ручьев не смог его побороть.
Ну что ж, надо испить горькую чашу до дна. В конце концов, нет людей, проживших жизнь без страданий, без мучений.
Пусть смеются, пусть издеваются, пусть наказывают… Может, отчислят, пошлют вместо того парня в свинарник.
Что ж, я готов. Я на все готов… И, честное слово, когда этот бортмеханик попытался меня утешить, я чуть не расплакался. Хоть один нашелся порядочный, понял. Я вылез из самолета. По-моему, выйти из него, когда он оказался на земле, мне было трудней, чем тогда, когда он был в воздухе.
Там мгновенная смерть, здесь — вечные муки.
Я готов, я готов.
Ни к чему я оказался не готов. И уж во всяком случае не к тому, что ждало меня.
Генерал подошел один, помог снять парашюты, обнял за плечи, повел по полю. Остальные ждали в отдалении.
— Ну что, сынок, не повезло? — спрашивает.
И как он это сказал, все — разревелся, как мальчишка. А я и есть мальчишка, да еще в худшем виде — маменькин сынок.
То ли пронял он своим «сынком» все мое напряжение — готовился бог знает к чему, только не к этому, то ли слово «не повезло» меня подкупило — единственная из тысяч причин, какой бы я хотел все объяснить.
Иду, здоровый болван, хлюпаю носом, слезы вытираю. Хорошо, никто не видит из ребят, далеко, да и заняты своими делами — прыжки-то продолжаются.
Ведь у этого Ладейникова тысячи таких, как я. Небось уж можно было и забыть, что есть отдельные люди, не полки, не роты. А он нянчится со мной.
— Ну что приуныл? — говорит. — Все равно ведь прыгнешь, не с первой попытки, так со второй. В любых прыжках три попытки дается, — смеется, — да в финале еще. Так что времени у тебя, сынок, еще много.
— Не прыгну я… не получится… — бормочу. — Теперь уж ничего не выйдет…
— Получится, — успокаивает, — все получится. Хочешь пари? А? Могу свои генеральские сапоги в заклад поставить. Ну?
Улыбаюсь. Успокаиваюсь.
Действительно, неужели не прыгну? Ну, получилось такое дело в первый раз, так сам комдив и то все понял. Что ж, другие не поймут?
Такое меня, к нему сильное чувство захлестнуло! Такая благодарность! Не знаю, если б пришлось когда-нибудь, я б за него с радостью жизнь отдал! Я понимаю, что войны нет, нет боев, ничто его жизни не угрожает. И жертвовать своей мне ради него не придется.
Но если б потребовалось, ни минуты не думал!
Прошелся он со мной по полю. На душе опять мрак — ведь сейчас второй прыжок предстоит.
Но когда к офицерам вернулись, генерал громко говорит:
— Не проси, Ручьев. Следующий раз прыгнешь. А на сегодня нет. Больше прыгать запрещаю.
Так сказал, будто я его все время уговаривал. У меня прямо камень с души — я ведь понимаю, что сегодня опять бы ничего не получилось, опять бы струсил. А так вроде бы сам генерал запретил. Не запрети, я б, мол, сто раз еще сегодня прыгал.
Какие бывают люди на свете! Да, это не то, что наши лейтенанты, Копылов например. Как он меня встретит, и Якубовский, и ребята?
Опять мрак. Опять плохо. Прямо душ Шарко — то кипяток, то лед…
Мои давно отпрыгались.
Иду один вдоль поля.
А с неба все сыплются и сыплются солдаты; самолеты, как в карусели, все кружатся и кружатся, все выбрасывают и выбрасывают, «мусорят».
По полю машины курсируют — подвозят стабилизирующие парашюты с чехлами.
Ребята укладывают парашюты. Смеются, орут. «Эй, — кричит один, — смотри-ка: Ленька как колбаса висит! Ха-ха!» «Ты зато как одуванчик порхал!» — смеется другой.
Весело им.
Прыгнули, сейчас значки получат. Праздник.
Для всех праздник. Только не для меня.
Чем ближе к палаткам подхожу, тем медленней иду. Потом понесся. Уж скорей бы.
Первым встречаю Сосновского. Сам ко мне подходит. С минуту смотрим друг на друга, как фарфоровые собачонки. Потом он говорит:
— Слушай. Толя, ты дурака не валяй. Я ведь по глазам вижу, всех ненавидишь, думаешь, смеяться будут. Так вот, даю тебе честное комсомольское, что никто не хмыкнул. Ни один. Огорчились — это верно. За тебя огорчились. И не бойся, в следующий раз прыгнешь. Все тебе поможем.
«В следующий раз». Все мне этот «следующий раз» пророчат, утешают. Помогут! Интересно как? Может, за меня прыгнут или всем миром из самолета вытолкнут? Добряки.
Хмыкнул я что-то и пошел в свою палатку. Слава богу, никого там нет.
Только лег — старший лейтенант Копылов вваливается. Веселый. улыбается. Вскакиваю.
— Ну что, Ручьев, нос повесил? Утешать не стану. Ты небось «бывает» да «в следующий раз обязательно прыгнешь» наслушался. Повторяться не буду. Страшного, действительно, ничего нет. Подумай, как сделать так, чтоб осечки больше не было. Нужна помощь — скажи. Но, честно говоря, я думаю — сам справишься. Без помощников. Теперь главное. (А это, значит, было не главное!) Давай-ка займись боевым листком — помоги ребятам. Никифоров руку ушиб, так что действуй. Надо срочно выпускать. Сейчас старший лейтенант Якубовский придет — давай мозгуй, предлагай. Чтоб через час. листок висел. Действуй!
Ушел. Будто ничего не произошло. А может, действительно ничего не произошло?
Только что я буду в листках писать, о ком? Меня-то там не было…
Ушел Копылов, пришел Грачев. Ну уж этот… Нет, тоже ничего. О чем-то поговорили — уж и не помню о чем. Только уходя, он бросил:
— А насчет прыжка — не беспокойся, мы с тобой еще займемся этим делом, и прыгнешь. Один раз не получится, другой получится. Дело-то простое — так что, считай, случайность.
Какие они все деликатные: «не повезло», «случайность», «бывает». Ни один ведь не сказал: «Трус ты. Ручьев, последний трусишка!» А так оно и есть.
Пришел Якубовский. Так даже и не заговорил о моем «деле»; начали обсуждать листок. О чем писать. И вдруг я ему говорю — как и сам не пойму:
— Товарищ гвардии старший лейтенант, давайте я напишу, почему я прыгнуть испугался.
Он посмотрел на меня, потом говорит:
— А сможешь объяснить? Правду написать сможешь? Если сможешь — валяй.
— А не будут смеяться? — спрашиваю.
— Уважать будут, — отвечает.
Беру карандаш, бумагу, сажусь писать. Ребята пошли значки получать. Я не могу выдержать — выхожу из палатки, незаметно пристраиваюсь за деревьями, смотрю. Выстроились буквой «П», посредине стол, все начальство. Вызывают одного за другим. Подходят к столу, получают значок, руки им жмут, в строй возвращаются, улыбаются во весь рот.
Вернулся в палатку. Обидно…
Сижу пишу. Ребята врываются. Увидели меня и замолчали. Кто-то подошел, обнял за плечи.
А Хворост, подлец, как загогочет:
— Ребята! Гвардии будущий генерал Ручьев пишет мемуары на тему «Как я не прыгнул с парашютом!».
Ведь в самую точку попал! Я хотел сам… а он заранее оплевал… Ну что ж, вот и началось.
Скомкал я лист, выбежал из палатки — и в лес.
Бродил, ходил, в другие расположения зашел, там же меня не знают в лицо.
Думал, все поймут. Ошибался.
Оказывается, генералы, офицеры понимают, а свои ребята — нет. Анна Павловна правильно говорила: «Зла жди от тех, кто ближе».
В роту вернулся перед вечерней поверкой.
Прошел мимо боевого листка, незаметно покосил глазом; про меня ничего.
Вошел в палатку. Так решил: если кто слово скажет, морду набью изо всех сил. А там пусть хоть в трибунал…
Но тут вечерняя поверка, отбой.
Только лег, смотрю, кто-то в сумраке подползает, шепчет:
— Слушай, Толь, ты не лезь в бутылку. А? Извини. Это я так, дурака свалял. Я ничего плохого-то не думал…
Хворост.
— Ладно, — говорю.
А он не уходит.
— Нет, ты извини меня. Да ты не думай, я сам, не из-за ребят… Знаешь…
— Извиняю, извиняю, — ворчу, — иди спать, а то старшина услышит — будет дело.