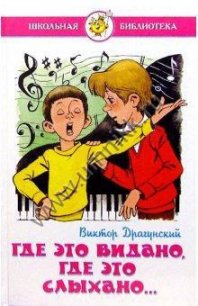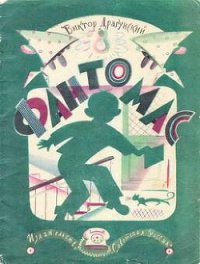Избранное. Повести и рассказы - Драгунский Виктор Юзефович (е книги .TXT) 📗
Я закрепил узелок и протянул Ирине тапочку.
— Готово, — сказал я. — Получайте ваш хрустальный башмачок.
Она, не раздумывая, протянула ногу, и я обул ее.
— Спасибо, — сказала она, вставая.
— Не за что, — сказал я.
Она подошла поближе и наклонилась ко мне низко, почти присела, ведь я сидел на маленьком стуле, и ее глаза были прямо против моих.
— Я не за тапочку, — сказала она, и я увидел нежность и благодарность в этой огромной синеве, — я за хрустальный башмачок.
Валя Нетти уже открыла дверь и держала ее распахнутой. Ирина пошла за ней, но в дверях остановилась и сказала мне уже совсем просто и дружелюбно, как говорят люди старинному своему знакомцу, приятелю и другу:
— Приходите завтра в двенадцать нашу репетицию смотреть.
Я сказал:
— Обязательно.
Тогда она как будто вспомнила:
— А вы когда будете репетировать?
И мы бы пришли.
— Хочется посмеяться, — сказала Валя Нетти.
— Вы меня уж прямо на представлении увидите, — сказал я, — вечером. Ведь я как раз перед вами иду по программе. Вот вы перед своим выходом и увидите меня. Через щелочку можно или сверху, где прожектор стоит, а еще лучше просто послушайте на ухо, как принимают.
— Нет, послушать — это неинтересно. Я непременно своими глазами хочу, сказала она. — Ну, еще раз спасибо! До завтра!
— До завтра, — сказал я.
— До завтра, — сказала Валя Нетти.
16
Я проснулся так рано оттого, что мне дьявольски хотелось есть. Вода под краном была студеная, голубоватая от холода, я умылся и вышел на улицу. Было уже часов восемь, я взял себе свежего хлеба в булочной и прошел на рынок, в молочный ряд. Жизнь уже кипела вовсю, и выстроенные в шеренгу стаканчики простокваши выглядели очень аппетитно. Я встал сбоку у прилавка и один за другим съел несколько таких стаканчиков. Потом я выбрал ряженку, она еще вкуснее простокваши, розоватая, нежная, освежающая, так бы и ел с утра до вечера.
Дебелая молочница, хозяйка этого товара, смотрела, как я ел, и выражение ее лица было сочувственное и немного грустное, как будто ей все про меня было известно и понятно. Я расплатился с ней и прошел в другой павильон. Там пахло всем осенним Подмосковьем сразу — укропом, чесноком, рассолом, грибами и еще чем-то, и я купил десяток репок и вернулся в цирк, потому что мне нужно было повидаться с Лялькой. Завидев меня, она по традиции приветственно подняла хобот. У ног ее ползали Панаргин и Генка. Возле них, на полу, на промасленной тряпице, лежали огромные, похожие на кинжалы и серпы, ножи, железные щетки и рашпили.
— Маникюр, — сказал Генка, кряхтя и кромсая Лялькину ногу. — Вот, дядя Коля, как слониха живет — почище любой графини!
— Да, — сказал Панаргин. — В Индии недаром говорят: искусство танца, искусство живописи, ткачества, ювелирное искусство — все это ерунда по сравнению с искусством ухода за слоном. — Он кивнул мне головой и прополз под Лялькиным брюхом к другой, задней ее ноге.
Ну что ж, выглядела она прекрасно, и мой утренний визит приняла благосклонно, и угощение проглотила молниеносно, все было в порядке, и я сейчас, пожалуй, только мешал им. Я отправился к себе.
Чтобы сократить расстояние, я решил пересечь манеж, и как только вошел в зал, увидел, что в манеже уже работают двое каких-то мальчат, они репетировали партерную акробатику, и я остановился в проходе, у столба, чтобы, оставаясь незамеченным, посмотреть работу. Не очень-то они были способные, эти мальчата, или просто еще не очухались ото сна, только дело у них не ладилось, они падали ежеминутно, спотыкались, и простое арабское колесо выглядело у них у обоих, прямо скажем, кошмарно. Их тренировал Вольдемаров. Я смутно видел его горилью фигуру в первом ряду партера. Хозяйский сынок. До революции его папаша имел свой цирк где-то в провинции, хороший был жук, что и говорить. До сих пор наши старики вспоминают его с неприязнью. А сынок его теперь был руководителем номера «акробаты-прыгуны», и, видно, яблочко недалеко от яблони падает, дрянь был порядочная. Сейчас он орал на этих двух ребят за то, что у них не клеилась работа, объяснял, путано и нетерпеливо, и задергал бедняг начисто. Когда же наконец до него дошло, что мальчишки просто устали, он с досадой крикнул им:
— Эх, плеточку бы сюда потолще! Живо бы все наладилось. Ну да ладно, черт с вами, отдыхайте.
Мальчишки облегченно вздохнули и уселись на барьер. Один сел ногами внутрь, а другой ногами наружу. Ему этого делать не стоило, конечно. В цирке есть, до сих пор живет, примета, что нельзя сидеть спиной к манежу, ну, как нельзя свистеть на сцене, не принято это, неуважение к месту своей работы, за это часто влетает. И Вольдемаров сейчас же обрадовался поводу сорвать злость, подскочил к бедняге, сидящему ногами наружу, и дал ему довольно мощного леща.
— Не сидеть спиной к манежу. Он тебя хлебом кормит.
Мальчуган испугался и заплакал. Его товарищ обнял его за плечи, и они убежали.
А меня бросило в жар. Мгновенно. Я этого не люблю. Ничего такого не люблю. Ненавижу. За это Я могу убить. Но в эту минуту я увидел, как из бокового прохода к Вольдемарову метнулась чья-то туманная тень.
Раз, бац! Вальдемаров получил две классические, не цирковые, нет, а самые настоящие, жизненные оплеухи. Он зарычал, и страшные кулаки его сжались. Он двинулся вперед, совершенно закрыв от меня фигуру своего победителя. Я был уверен, что сейчас начнется грандиозная потасовка, но, к своему удивлению, увидел, что грозный Вольдемаров вдруг отступил и, громко захохотав каким-то картонным, деланным смехом, круто повернулся и вышел в главный проход.
Теперь он перестал заслонять от меня эту незнакомую фигуру, которая только что, сейчас, надавала ему по морде, вступившись за ребенка.
Я пристально вгляделся, и мне все стало ясно. Это была Ирина.
17
Ровно в двенадцать часов манеж освободили — Раскатовы должны были прорепетировать свой номер, и в партере стали появляться все свободные от работы люди. И несмотря на то что их было побольше ста, все равно цирк казался пустым, огромным и плохо освещенным. Люди садились поближе, в первые ряды, но я знал, где нужно сидеть, чтобы как следует рассмотреть работу, и я сел подальше, ряду в десятом, немного слева от выхода.
Ирина появилась, одетая в какой-то будничный серо-коричневый халат, небрежно накинутый на плечи. Она остановилась у форганга и заговорила о чем-то с униформистом, стариком Жилкиным, не знаю, о чем они говорили, Жилкин смущенно разводил руками и тряс головой, видно, в чем-то отказывал Ирине. Она отвернулась от него, спокойно и безразлично, и стала глядеть на Мишу Раскатова, который неизвестно почему с утра пораньше нарядился в черный вечерний костюм с крахмальным воротничком, при галстуке и при булавке. Волосы его были набриолинены и причесаны туго-натуго, волосок к волоску. Они прямо-таки сверкали, и на левой руке Мишки, на безымянном пальце, еще сильнее сверкало большое кольцо, мужской обольстительный перстень. Где этот парень нагляделся? Где нахватался этого дешевого шику производства тысяча девятьсот тринадцатого года? Все это раньше называлось костюмом в «салонном жанре» — так полагалось выглядеть высококровному «аристократу цирка» и «королю воздуха», но в наше время это выглядит уже смешным и нелепым, и как Мишка не понимал этого? И пока я все это думал, наш вездесущий Жек в последний раз опустил и проверил трапецию, неподвижно укрепленную, некачающуюся, так называемую штейн-трапе. Мишка тоже принимал участие в этой работе. Я понял, что на этой штейн-трапе Ирина для начала покажет серию обязательных для воздушных гимнасток трюков и только потом, в финале, она пойдет на рекордный трюк и продемонстрирует «гвоздь» своей работы, знаменитый, поставленный Раскатовым «номер смертельного риска».
Мишка что-то покрикивал властным голосом и делал великолепные жесты, посылал в разные места униформистов, и когда посылал, протягивал костлявый, загибающийся кверху палец. Ирина все еще стояла внизу у входа, она курила длинную папиросу. Лицо у нее было веселое и светлое, и я долго смотрел на нее, все не мог глаз отвести. Да, это была очень красивая и очень юная артистка цирка, артистка от рождения, артистка с головы до ног, от узкой и тонкой щиколотки до маленькой изящной головки с синими, спокойными и странно огромными глазами. Да, это была настоящая артистка цирка с прекрасными сильными руками, перебинтованными у запястий, с таинственной, пленяющей сердце улыбкой на розовых, словно очерченных губах с благожелательно приподнятыми уголками. Она долго так стояла, и я все любовался ею, униформисты все еще возились в манеже, и, видно, ей надоела эта возня, она что-то сказала Жеку негромко и повелительно, потом решительно сбросила на барьер серо-коричневый будничный свой халат. Стали видны ее нескончаемые эллинские ноги, и гибкая талия, и втянутый мускулистый живот. На ней надет был черный костюм, плотный и прилегающий, обтягивающий всю ее безупречную фигуру. Она попрыгала немного на одном месте, чтобы восстановить кровообращение, дать ему хлыста, что ли, и потом, остановившись, повела вокруг глазами, рассматривая немногих собравшихся в зале. Я смотрел на нее, и мы встретились глазами, и, узнав меня, она опять-таки для разминки побежала ко мне, вверх по ступенькам. Я задыхался, глядя, как она бежит ко мне, и встал ей навстречу.