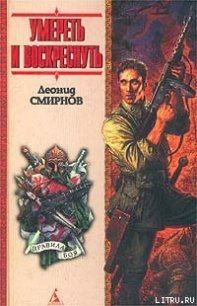Миколка-паровоз (сборник) - Лыньков Михась (первая книга .TXT) 📗
Полакомившись, побрели через болото. Осторожно обошли место, где утром было слышно позванивание колокольцев. Мишкина мать догадывалась, что возле лошадей должны быть и люди. Сам Мишка еще ни разу не видал человека, но по тому, как избегала мать встреч с человеком, угадывал, что это не иначе, как самый хитрый враг, возможно, куда хитрее жабы, или шмеля, или там, скажем, ежа. С этими Мишка уже успел познакомиться, и знакомство с жабой, шмелем и ежиком не принесло ему особой радости. Попробовал он как-то раз жабу лизнуть языком — плевался потом сколько! Да три дня после язык пекло. Шмель встретился, красивый такой, веселый, золотистый. Сам маленький, а голос подает — ку-у-уда-а там, гудит, трава даже колышется. Гонялся Мишка за шмелем и увидел, как тот спрятался в синий колокольчик. Ткнулся Мишка к цветку, да вдруг как заревет. Перепугалась мать, выскочила из берлоги. Дня два у Мишки нос разносило, огнем жгло. Он уж и в воде его полоскал, и о бок матери тер, и к сырой земле прикладывал. Кое-как удалось ему спасти нос, вылечить. И теперь, едва заметит шмеля, так боком-боком и за кусты, подальше от этой чертовой мухи. Вот вам и шмель!
О еже и говорить не приходится. Это уж такой зверь, что страшнее, видно, вообще нет на белом свете. Донимали Мишку и пчелы. Ходил он однажды с матерью в глухой бор. Забралась мать на такую высоченную сосну, что с земли едва разглядишь ее из-за папоротников, в которые завалился Мишка.
Слышит Мишка — взревела мать на сосне. Трещит что-то там, наверху, сухие сучья летят, падают поломанные. И гудит, гудит что-то на всю поляну. Не слезла, а спрыгнула Мишкина мать на землю. Спрыгнула — и бежать прочь. Мишка за нею. Бежит, а пчелы не отстают. Вцепились в голову, в нос, в хвост, в пузо. В глаза лезут, как ни верти мордой. Чего только не делал Мишка — и о кусты терся, и по траве катался — все напрасно. Покамест за матерью по пятам в речку не кувыркнулся, не отставали пчелы. И опять дня три ходил Мишка сам не свой. Прихворнул даже немножечко, в берлоге пришлось отлеживаться. Глаза до того позапухали, что ничего и не видел. Губы тоже опухли и нос. Ни к чему не прикоснись — болит.
Зато каким медом после угощала мать Мишку — ел бы и ел, кажется, целыми днями да облизывался!
Вот они какие те пчелы были!
И хотя боялся Мишка и жабы, и шмеля, и ежа колючего, но примечал, что мать на них и глазом не ведет, вовсе не боится. А человеческий голос заслышит — перепугается. Видно, человек куда страшнее шмеля и жабы.
Вот и сейчас Мишкина мать осторожно нюхает воздух, сворачивает в сторону и трусит по глухим болотным тропкам. «Наверно, в овес», — думает Мишка.
И точно, вскоре вышли они на большую поляну, поросшую усатым овсом. Овес еще не поспел, был зеленоватый, лишь кое-где попадались пожелтелые, золотистые островки. От легкого ветерка пробегали по овсу дрожащие волны, и слышен был тихий, задумчивый шорох. Вроде колоски перешептывались: шу-у, ш-шу… шу-у, ш-шу… Нравился Мишке этот шорох, эти едва слышные, тихие голоса овсяных колосьев. Ляжет в борозду и прислушивается. Над ним — высокое синее небо, плывут где-то там белые-белые облачка, под ними парит коршун, еще пониже проносятся пугливые утки. У этих крылья — свистульки, только и слышишь: фью, фью… фью, фью… А овес шумит свое: шу-у, шу-у… ш-шу, ш-шу…
Слушает Мишка и дремлет. Зима ему вспоминается, когда шумели над головой голые деревья. Посильнее шум был, грозный такой, хотя и прислушивался к нему Мишка сквозь крепкий зимний сон. Не шумело, а гудело в вершинах, с присвистом завывало в заснеженных еловых лапах: угу-ю-у-у… у-ю-у-угу… у-у-у… И бывало тогда холодно. Помнится Мишке, как поднимался пар над берлогой и от этого пара свисали с корней прозрачные сосульки. О них Мишка еще нос уколол, когда перед самой весною попробовал выползти из берлоги.
Любит Мишка слушать овсяные шорохи. А еще больше нравятся ему овсяные колоски. Сладкие они, пахучие. Вроде материнского молока. И ощипывает Мишка овес, полными горстями запихивает в пасть, а когда устанет ходить на задних лапах, когда наестся вдоволь, тогда развалится и, примяв лапой несколько стеблей, лениво перебирает их губами, смакует каждый колос.
На поляне они с матерью оказались не одни. Пришел старый медведь. Был он очень уж мрачный, сердитый. Без всякого повода набросился вдруг на Мишку и так хватил его зубами, что тот чуть не задохнулся от рева. Тогда пришла на помощь Мишкина мать: она так грозно двинулась на медведя, так сильно, со всего маху, ударила его лапой по морде, что старый медведь опрометью бросился бежать — только затрещал под ним валежник да кусты орешника. По рыжей подпалине на боку медведя Мишка узнал в нем своего отца. Удивился: ничего себе папаша! Разве ж воспитывают так, скаля на сыновей злые клыки.
Возвращались они без особых приключений. Медведица шла рядом с Мишкой, старательно зализывала ему шею, на которой остались следы папашиных зубов, и потихоньку ворчала себе под нос что-то свое, медвежье.
Когда переходили ручей, медведица взяла Мишку передними лапами и принялась купать. Не очень-то любил Мишка эту процедуру и обычно старался увернуться, сбежать, а порою даже, огрызаясь, пробовал кусаться. Но теперь, вспоминая, как смело встала мать на его защиту, послушно плескался в воде, отфыркивался и выполнял все ее распоряжения: поворачивался, наклонял голову, подставлял матери то один, то другой бок. Покупался и давай носиться по кустам, гоняться за белыми мотыльками, кататься по траве, чтобы поскорее обсохнуть.
Вернулись в берлогу, и мать сразу же завалилась спать. Берлога выглядела просторной и уютной. В достатке было припасено и теплого мха и сухой листвы. Вверху переплетенные корни поваленного дерева создавали надежную крышу: даже в дождь здесь было всегда сухо. Неподалеку проходила лесная дорога, но никто по ней не ездил, никто не нарушал привычного покоя. К тому же берлога пряталась в густых зарослях. Никогда не встречался в этих местах человек.
Медведица отдыхала, а Мишке спать не хотелось. Он в который раз обследовал берлогу: обнюхал каждый камушек, каждый свисающий корень. Интересного в этом, конечно, ничего не было. Мишка заскучал.
Глянув на похрапывающую мать, Мишка выбрался из берлоги. Тут совсем иное дело. Можно в охоту покувыркаться в щекотливом вереске, проложить в папоротнике широкий след. А муравейник! Запустишь в него лапу, разворошишь, скорехонько отпрыгнешь в сторону — и то-то смех Глядеть, как замечутся встревоженные муравьи, примутся таскать стебельки, переносить белые яички.
А сколько разных интересных звуков в лесу! Вон там пестрый дятел выстукивает что-то на коре старой ольхи. Взгромоздился на высокий сук, уцепился когтями и — тук-тук да тук-тук… Попробовал и Мишка. Ударил носом по сосне. Никакого «тук-тука» не получилось. Только неприятность: оцарапал нос — больше ничего… Сердито посмотрел Мишка на дятла, занятого своим делом.
Тут увидел он белку. Прыгает с ветки на ветку. Забралась повыше и прихорашивается. Мишку не замечает. Тот и так и сяк старается — зубами щелкает, лапой землю роет, голос пытается подать, а белка — хоть бы хны. Ну посмотрела бы разок на него, что ли! Поводит рыжим хвостом, словно метелочкой, усиками шевелит.
Разозлился Мишка. Подкрался к сосне и — раз! — лапой по стволу. Белка — прыг! — и на другую, потом на третью.
Мишка за нею. Задрал морду, из виду белки не выпускает. Потом на сосну взобрался, вот-вот поймает, да разве за белкой угонишься: скачет как блоха.
Один раз Мишка и сам попробовал прыгнуть: оттолкнулся от ствола, растопырил лапы. Думал, полетит, будто мотылек, по воздуху. И вот сейчас, кажется, зубами за хвост ее, рыжую, схватит. Да где там! Один миг — и рот у Мишки полон земли, нога болит. Тяжело приземлился. Хорошо хоть, что дерево было низкое, мог бы этот полет кончиться еще хуже. Ладно, пускай они, рыжие белки, летают, пускай и мотыльки летают, а ему, Мишке, достаточно того, что он по земле ходит и на деревья умеет лазить.
Бегал, бегал так вокруг берлоги Мишка и спохватился: ведь он сегодня малины-то еще не отведал. Вот чудеса какие! Жить в малиннике и малины вдоволь не наесться… Правда, мать строго-настрого наказывала никуда без нее не ходить.