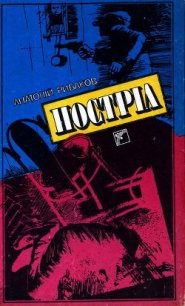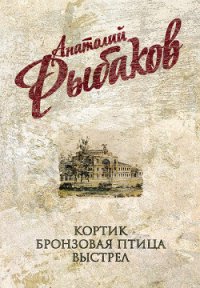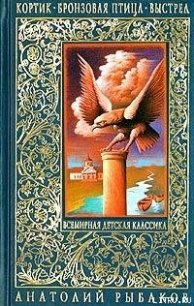Каникулы Кроша - Рыбаков Анатолий Наумович (книги без регистрации .txt) 📗
– Не твое дело!
– Ах, не мое?! Тогда не вмешивайся и в мои дела. Нэцкэ я не отдам. Кончен разговор.
– Разговор далеко не кончен, – процедил сквозь зубы Костя.
Опять угрозы... Смешно, ей-богу! Думают, что я их боюсь, дурачки, честное слово! Идиотики!
Я остановился.
– Вот что, Костя! Угрозы и запугивания оставь для кого-нибудь другого – я уже тебе это говорил и повторяю опять. Твой Веэн прохвост, вот кто он такой, и ты в этом когда-нибудь убедишься, смотри, чтобы не было слишком поздно. А я не желаю. Вы изолгались и изоврались, а я не желаю. Твой отчим добрый, порядочный человек, а ты ему хамишь. Веэн прохвост – ты ему лучший друг. Ну и пожалуйста, с богом!
– Не касайся этого! – закричал Костя.
– Мне нельзя касаться твоих дел, а тебе моих можно? Так не пойдет.
– Мои дела – это мои дела, а твои – наши общие, мы их делали вместе.
– Делали, а теперь не будем. Тебе надо заработать у Веэна, а мне не надо. Дешево ты продаешься. Прохвост Веэн тебе дороже человека, который тебя воспитал. Я только что видел твоего отчима.
Костя поднял на меня глаза.
– Где ты его видел?
– В клубе. Он был рад и счастлив тому, что ты выиграл бой. А ты вынуждаешь его приходить тайком. Он просил меня не говорить тебе, что я его видел, – вот как ты заставляешь его унижаться. А что он сделал тебе плохого? Ты мучаешь своих родных из-за кого? Из-за прохвоста Веэна? А кто тебе Веэн? Ведь не отдаешь ты ему мальчика с книгой, все понимаешь!
Эта догадка пришла мне в голову неожиданно.
Костя молчал. Я попал в самую точку. Надо развивать успех.
– Не воображай, что все такие дураки. Если людям запрещают говорить, то они не перестают думать. Ты не позволяешь произносить одно имя, но ты не можешь запретить догадываться... Я не знаю, как попала к тебе лучшая нэцкэ этого человека, но я знаю, за чьей коллекцией гоняется Веэн. И ты это знаешь. И ты знаешь, что такое Веэн. Коварный, вероломный человек, всех путает, всех ссорит между собой, всех обманывает и тебя обманывает, ты еще убедишься в этом.
Костино лицо выражало страдание. То, о чем мы говорили, было главным, самым важным в его жизни. И надо говорить только об этом, больше ни о чем. И я сказал:
– Краснухин хорошо знал Мавродаки. Пойдем к нему?
25
Я в третий раз у Краснухина, но у меня ощущение, будто я хожу сюда всю жизнь, так здесь все знакомо, привычно, хорошо. Тесно, нагромождено, пахнет кухней. Галя и Саша прыгают на диване, звонит телефон. Краснухин басит в трубку, нет ни дорогих картин, ни старинной мебели, как у Веэна, ни изящных безделушек, и все же именно здесь живет и работает настоящий человек искусства.
В лице Краснухина не было озабоченности, как в прошлый раз, он был спокоен, безмятежен, видимо, все устроилось, все обошлось, он объяснился, и больше объясняться пока не надо. На Краснухине был темно-синий костюм и белая рубашка с галстуком. Костюм был старенький, потертый, заношенный, сидел мешком, и все же Краснухин выглядел в нем очень представительным – крупный, сильный, красивый мужчина.
Чувствовался подъем, праздник, что ли, какой-то. Из кухни пахло не треской и не молоком, а чем-то вкусным, аппетитным, жареным мясом как будто... Жена Краснухина была озабочена не как в прошлый раз, а оживленно, как хозяйка, ждущая гостей.
– Я сегодня при деньгах, – сказал Краснухин кому-то по телефону, – давай подгребай.
Из дальнейшего разговора я понял, что Краснухин выполнил срочный заказ, оформил, проиллюстрировал книгу в издательстве и по этому поводу созывает гостей.
В общем, пришла удача, особенно ощутимая в доме, где удачи бывают не часто.
И я был этому рад – должны же быть удачи и у непризнанного художника, черт побери!
Несколько минут Краснухин не сводил с Кости своих громадных глазищ. На меня он так не смотрел ни в прошлый раз, ни в позапрошлый, а на Костю смотрел особенно, я бы сказал – потрясенно: понял, кого я привел с собой. Самое правильное – оставить их вдвоем. Я встал.
– Пойду, пожалуй, а ты, Костя, посиди.
Недоуменный взгляд Кости показал, что он не оценил моего дипломатического хода.
Тогда я сказал Краснухину:
– Евгений Алексеевич, это мой товарищ, Костя. Вы не расскажете ему о профессоре Мавродаки?
Краснухин еще раз посмотрел на Костю, повращал глазами, потом долго рылся в бумагах, развязывал и завязывал тесемки на папках, перебирал карточки и рисунки и наконец нашел то, что искал, – большую групповую фотографию.
– Наш выпуск.
Тонко очиненным карандашом он показал на небольшого черненького, улыбающегося человека в центре группы. Это был Мавродаки... И я поразился его сходству с Костей.
Костя так и впился глазами в фотографию.
Я не хотел ему мешать и отошел в сторону, рассматривая висящие на стене гипсовые слепки рук.
Краснухин тоже делал вид, что не обращает внимания на Костю, ходил по мастерской, чего-то перебирал, переставлял, выходил на кухню, разговаривал с женой, снова возвращался. Было видно, что он не умеет не работать, не привык отдыхать, не привык к темно-синему костюму, неважно чувствует себя в белой рубашке и галстуке.
– Вы можете мне ее дать? – спросил Костя про фотографию.
– Насовсем – нет, переснять – пожалуйста.
– Это Владимир Николаевич? – спросил вдруг Костя.
Краснухин наклонился к фотографии.
– Да, по-видимому... Он был тогда в аспирантуре.
Это новость! Веэн еще в то время лично знал Мавродаки. Почему же он ничего мне об этом не сказал?
– Вам не знакома такая фамилия – Максимов? – спросил я.
– Кто такой Максимов?
– Критик, наверно.
– Держусь от них подальше.
– Говорят, Владимир Николаевич прокатился по вашему адресу?
– Было дело.
– А что он писал?
– Тебя это интересует?
– Интересует.
Он кивнул на лежащую в углу кучу журналов:
– Поищи третий номер за прошлый год.
Найти журнал тоже оказалось не так просто. Я поразился беспечности Краснухина. О нем написана статья, а он ее засунул сам не знает куда.
Я нашел журнал не в той куче бумаг, которую показал мне Краснухин, а совсем в другом углу, за токарным станком.
В статье было написано, что творчество Краснухина не самостоятельно и не находится в главном русле. Потом следовала фраза: «Искусство принадлежит тому, кто несет его народу». Правильная мысль! Но ведь мне Веэн говорил другое: «Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает». Как-то раз он даже сказал: «Приходя на выставку, я чувствую себя обокраденным». Он хочет, чтобы искусство принадлежало ему одному, хочет набить им свои шкафы и полки. Дело даже не в том, что он думает одно, а пишет другое. Веэн прохвост, это мне известно. Дело в том, что в статье Максимова тоже трактовался этот вопрос. Я разыскал это место, вот оно: «Искусство не принадлежит тому, кто им занимается. Оно прежде всего орудие...» Мысли разные, но высказывал их один человек, это ясно, один и тот же беспринципный человек. В статье Максимова было больше ругательств, в статье Веэна – меньше, но писал их один человек, это точно.
– Вы дадите мне на пару дней журнал? – спросил я.
– Гм... А с чем я останусь?.. Впрочем, только верни...
Поразительный человек! Ни в чем не может отказать.
– Через два дня журнал будет у вас.
Краснухин достал из шкафа нэцкэ – круглую лакированную пуговицу с изображением цветка на высоком, тонком стебле. Цветок тянулся к солнцу, прекрасный, молодой, гибкий, излучающий радость и торжество жизни. Кругом был мир и зелень, за горизонтом пылало солнце, а цветок стоял один, гордый, сильный, чуть наклоненный в своем стремительном порыве.
Несколько минут Краснухин молча любовался пуговицей, потом сказал:
– Что прекрасно в этой нэцкэ? Прекрасно доброе чувство, которое двигало ее создателем, сознание, что и сотни лет назад люди радовались прекрасному и доброму. Я бы так и оценивал произведения искусства: по степени доброго чувства, которое они вызывают.