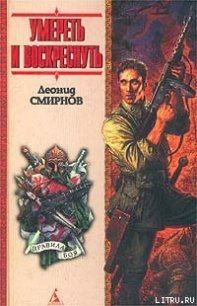Миколка-паровоз (сборник) - Лыньков Михась (первая книга .TXT) 📗
А потом начинало казаться, будто это огромная чудовищная жар-птица машет огненными крыльями, бьется, трепещет, раненная, то припадая к самой земле, то теряя на лету свои золотые перья в небесах.
Глухо зашумели кроны лип, и резная листва их тоже стала багряной. Это налетел порыв ветра и загудел протяжно в саду.
Пропал где-то часовой, не слышно, чтоб поскрипывали его тяжелые сапоги на песке.
— Пожар! — раздавались в погребе голоса. — А что горит?
— Пожалуй, началось с панских конюшен, — высказал догадку кто-то. — Искры оттуда летят…
И только сказали это узники, как внезапно страшный взрыв отбросил их от окошка, ослепило горячее пламя. Задрожали стены погреба. Посыпалась штукатурка с них и с потолка тоже. Беспорядочный топот ног послышался наверху, раздались отчаянные крики, и где-то совсем рядом прогремело два выстрела. Потом так же внезапно вдруг воцарилась тишина и зловеще нависла над садом, над панским домом.
Миколка осмелел и выглянул в окошко. И первое, что он увидел, это немецкую каску. Она валялась возле самого окошка, воткнувшись острым шишаком в песок. На крыльце, раскинув руки, лежало несколько солдат, и перевернутый кверху колесами пулемет поблескивал лентой с патронами.
— Так вот оно что! — догадались в погребе. — Пожар-то, выходит, не простой! Наш пожар, партизанский…
Распахнулась с грохотом дверь панского дома, и толпа людей вывалилась на улицу. Они вели связанного немецкого полковника, а рядом прихрамывали его офицеры, вытягивая руки высоко вверх. Их окружало человек двадцать с винтовками и дробовиками. А у одного Миколка увидел даже обыкновенную косу. Повели полковника и офицеров куда-то за угол дома, в темную липовую аллею.
Неподалеку от крыльца осталась группа немецких солдат. Все они были обезоружены, и никто их не охранял. Стояли эти немцы и о чем-то переговаривались друг с другом, спорили. Иногда раздавался там смех — дружный, веселый.
В глубине сада прогремело несколько выстрелов.
Солдаты сразу замолчали. Потом махнули руками и принялись опять спорить о чем-то.
И тут лишь поняли узники, запертые в погребе, что пробил час их освобождения, что уготованная для них смерть прошла стороной. И бросились они обниматься, стали тормошить да целовать Миколку, кричать, стучать в дверь. На шум сбежались немецкие солдаты, заглянули в низенькое окошко и побежали куда-то за дом. Вскоре показались из-за дома вооруженные люди. Сорвали дверные запоры и петли, и в шуме возбужденных голосов выбрались пленники на вольный простор, под открытое небо.
Наступал рассвет. Вот-вот взойдет солнце над ближним лесом. Но тут под самое небо полетело громкое и дружное «ура!»
И показалось Миколке, что вот-вот вырвется у него из груди сердце от великой, жгучей радости. Бросился он на шею матросу, который, судя по всему, был тут за главного и командовал вооруженными людьми.
— Ого! Да ты ж совсем еще малыш, а уже досадил немцам так, что они тебе смерть готовили! — воскликнул матрос и, подхватив Миколку, высоко-высоко подбросил кверху, так, что вблизи увидел Миколка самые верхушки притихших лип.
Ничего не ответил матросу Миколка — захлестнула, переполнила его радость победы над ненавистными врагами. И вдруг, вглядевшись в матроса, закричал он деду Астапу:
— Дедушка! Да ведь это тот самый человек, что под сосной стоял. Тот, которого ты от расстрела спас…
Что поднялось тут — разве пером описать! Дед обнялся с матросом. Они сорвали шапки и со всего маху швырнули их наземь. Трижды расцеловались, крепко обнявшись. Дед Астап аж ойкнул, так сильно сжал его матрос в объятиях. И заметил Миколка, как покатились вдруг по морщинистому лицу деда слезы. Но хитер дед — вмиг смахнул их кончиком бороды. А Миколка все равно с упреком:
— Чего это ты, дед, нюни распускаешь?
— Да разве ж это слезы, внучек, это ж сама радость, — сконфузился дед Астап.
Уж такой он, дедушка у Миколки, — нигде не растеряется!
Стал Семка-матрос расспрашивать их, откуда они и что за люди и почему старик так храбро бросился спасать его, Семку, от немцев. А когда все услышали, что дед Астап — отец помощника машиниста Андрея со станции, а Миколка — сын Андрея, восторженный гул прокатился по толпе.
— Да ведь твой батька, — говорил матрос Миколке, — это мой самый лучший друг! Ведь твой батька самый смелый большевик! Это ж мы с ним и с другими рабочими из депо да с нашими вот партизанами и учим уму-разуму панов… Чтобы знали они, как деревни грабить, как выдавать немчуре на расправу бедняков крестьян… Чтобы не смели рук поднимать на большевистскую нашу власть!
А помещичий дом-палац разгорался все больше и больше. Острые языки пламени вырывались из верхних окон, черный дым тянулся к небу.
— Важно горит. Все пойдет пылом-дымом. Мало было ему добра, гаду, нас обирать вздумал. Из-за него немчура наши деревни пожгла. Так пусть же сгорит у него все дотла, чтоб и корня панского не осталось на нашей земле! — шумела толпа крестьян.
И тут спохватился матрос Семен:
— А этот дьявол толстый, пан наш дорогой, где?
— Спрятался где-то.
— Ничего, мы его выкурим…
В кустах, что росли вокруг нарядной террасы, мелькнуло что-то белое, грузное. Бросился туда Миколка со всех ног. За ним потрусил дед Астап.
Белое заметалось среди акаций, среди сирени. Вот уж и пятки сверкнули в зелени листвы и трав. Бежит человек в нижнем белье. Бежит и не остановится, не оглянется даже.
Сомнений не было: это пан-барин. Мчит по саду, к лесу пробирается.
— Стой, брюхач, не то пальну! — крикнул дед Астап и вскинул карабин, который только что подарил ему Семен-матрос.
Пан-барин вскочил было на забор, перемахнуть собираясь, да нижней сорочкой зацепился за доску, повис, волосатыми ногами дрыгает.
— Полюбуйся, народ честной, какое он себе брюхо наел, боров этот!.. — заговорил дед, но вдруг сразу сделался строгим, отступил на шаг, взял под козырек: — Попрошу слезть, ваше сиятельство, с забора, неудобно в такой позиции вашему превосходительству перед честным народом…
Да разве слезет он, пан-барин, сам-то, без помощи! Застряло их превосходительство серьезно. Но тут сбежались крестьяне и не очень уж деликатно, правду говоря, сняли пана с такого необычного кресла. Шлепнулся помещик на землю и пополз крестьянам в ноги кланяться. Целует землю, слюнявит лапти крестьянские, просит-молит снисхождения: мол, не он это виноват в расстрелах да в грабежах, а немчура поганая…
— Кто тебе поверит, ирод? Ну, хлопцы, что будем делать с ним, с их сиятельством самим? Пулю и то жаль на такую жабу тратить, — сказал Семка-матрос, а потом засмеялся и велел: — Окунуть его в пруд! Пусть малость остынет от горячки давешней… Поди, и ванну нынче принять не успел «их сиятельство»…
Окунули пана-барина в пруд, отфыркался он да и притих там, где помельче. Сидит, помалкивает.
А партизаны тем временем не дремали. Выгоняли скотину из панских сараев, выводили лошадей из конюшен, опустошали амбары. Нашлось применение и панским бричкам: пристроили на них отобранные у немцев пулеметы, винтовки сложили трофейные. Вышли из бричек боевые тачанки.
Миколке где быть? Конечно, возле пулемета, на самой передней тачанке. А дед Астап гикнул, свистнул да и вспрыгнул на немецкого верхового скакуна: ни дать ни взять — заправский вояка-кавалерист. Одна жалость, не было у деда Астапа сабли, а без нее не тот вид у всадника!
Раздобыл где-то Семка-матрос и саблю для деда Астапа, вручил торжественно — вот теперь уж все в порядке.
А Миколке он дал небольшой штык от немецкого карабина. Сразу-то и не поймешь — то ли штык, то ли кинжал. И Миколка прицепил его к поясу, испытывая небывалую гордость.
Так вот и стал Миколка пулеметчиком, а дед Астап — кавалеристом. Правда, не долго довелось ему пребывать в этом роде войск, вскорости совсем не понравилась конница деду, и перешел он в пехоту. Но про это особый сказ…
Дотла почти сгорел панский дом-палац, когда тронулся в путь-дорогу отряд Семки-матроса. Впереди всех гарцевал на вороном коне сам Семка. Сопровождало его несколько вооруженных саблями да карабинами молодых парней. И уже за ними катили тачанки с пулеметами. Но все равно казалось Миколке, что едет он во главе отряда, а если и не самым первым, то лишь потому, что Семка-матрос тут самый главный.