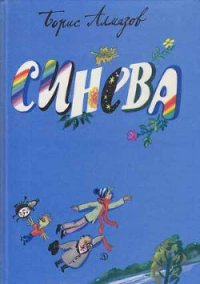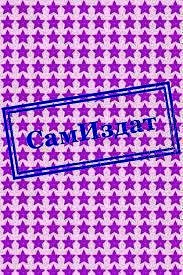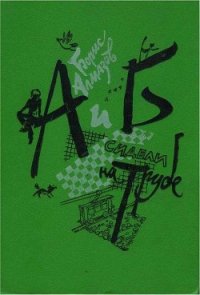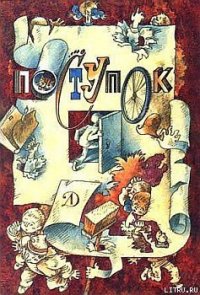Я иду искать - Алмазов Борис Александрович (книги онлайн полностью txt) 📗
Глава девятнадцатая
НУ И ПУСТЬ!
— Макаров! — нагнал меня в коридоре Роберт Иванович. — Что, голубчик, на занятия кружка не ходишь?
Я чуть на пол не сел.
— Так меня же исключили!
— Ничего подобного, — сказал Роберт Иванович. — Совсем не так. И это зафиксировано в протоколе. Тебя переизбрали. Ты не председатель кружка, но из кружка тебя никто не исключал и не может исключить… Потому что ребята против этого!
— Ха! — сказал я. — Это Пантелеева, что ли?
— Не только, не только.
— А кто ещё?
— Да процентов сорок.
— Ну?
— Вот тебе и «ну»! — И, подмигнув мне из-за очков, директор добавил: — А ты как думал? Ты вообще, Макаров, меня удивляешь. У тебя поразительная способность жить совершенно обособленно. Как это у тебя получается?
— Ничего не обособленно, — сказал я. — Учусь нормально, все поручения выполняю…
— Да брось ты! — похлопал меня по плечу Роберт Иванович. — Ничего в твоём способе жить хорошего нет. Иной раз так одиноко станет. А?
— Ничего не одиноко… — пробурчал я.
— Кстати! — не слушая меня, сказал Роберт Иванович. — К нам же сегодня приезжает профессор Субботин. Как раз по твоей теме!
— Какой ещё Субботин?
— Ох, Макаров, Макаров… Да письмо который прислал! Которого Иванов и Мироненко раненого выносили… Вспомнил? У него командировка, вот он и к нам забежит на минуточку…
Ничего себе «забежит», ещё хорошо, что наш директор этих слов при самом профессоре Субботине не сказал! «Забежит»! Он минут пять из «Волги» вылезал. Потом выпрямился, что-то на бедре у себя защёлкнул и стал тяжело подниматься по лестнице. Эмлемба с другими девчонками его у входа встречала с цветами, а я за колонной стоял, чтобы особенно в глаза не бросаться.
Я никогда живого профессора не видел, но точно знаю, что этот Субботин на профессора совершенно непохож. Настоящий профессор должен быть седенький, и в такой чёрной шапочке, и с бородкой… У нас в кабинете химии портрет есть. Академик Зелинский — изобретатель противогаза. Вот это профессор. А тут идёт здоровенный дядька, молодой и румяный, в американских очках, и волосы на голове, как два вороньих крыла, на виски разваливаются… Совершенно на вид никакой не профессор.
И вообще он вёл себя не так, как я думал. Я думал, он станет рассказывать про танковый таран, про то, как они через линию фронта прорывались… Прожектора кругом! Пули свистят, и они ползут! Фашист из окопа — раз, а они его — ты-ты-ты из автомата или кинжалом… Ну я же про войну всё знаю! Я же все фильмы про войну смотрю… А этот профессор Субботин поднялся на сцену в актовом зале, взял стул. Опять чего-то на бедре защёлкнул и, пока мы ему хлопали, на стуле примостился. Потом руку поднял и говорит:
— Давайте, ребята, мы без этих «ура» и без оваций… Я же не Алла Пугачёва…
Все засмеялись. Он говорит:
— Ну вот и хорошо. А теперь будем говорить о вещах тяжёлых. Я приехал сюда, потому что Сергей Иванов, которого вы разыскиваете, самый дорогой для меня человек! Да. Вы, конечно, заметили, что я инвалид. У меня нет обеих ног… — Он постучал по голеням, и раздался деревянный пустой звук.
25 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
Они шли вторую неделю. И вот уже четыре дня слышали за спиной лай немецких овчарок. Раненый был в забытьи. Время от времени он приходил в себя и требовал, умолял, чтобы его бросили, чтобы его добили, не мучали, не тащили по болотам и бурелому.
— Ребята! — говорил он, облизывая распухшие, растрескавшиеся губы. — Бросьте меня! Вы к своим выйдете! Будете воевать, а я куда? Ноги-то нет! Куда я годен?
— Ты что, балерина? — говорил лейтенант Иванов. — Не смеши ты меня! Я смеяться не могу…
Во время танкового тарана он ударился о казённик пушки и выбил все передние зубы. Вероятно, были сломаны нос и скула, оттого лицо было раздуто, как футбольный мяч.
Однажды, придя в себя, Субботин увидел, как Сергей, обхватив руками голову, тихо стонет и раскачивается из стороны в сторону.
— Серёжа, — позвал он. — Лицо болит?
— Да нет, — ответил тот, поднимаясь. — Это я так, шея затекла.
И опять они поднимали носилки на плечи и несли раненого дальше.
— Была жизнь, были планы… собирался институт закончить в сорок втором… — говорил Субботин. — А теперь всё к чёрту.
— До чего ты мне надоел! — отвечал Сергей. — Закончишь свой институт! Может, даже в сорок втором. Радоваться должен, что только ногу потерял там, где другие головы оставили!
Субботин был в жару и поэтому не страдал от голода, а вот Иванов и Мироненко давно съели последний сухарь.
С каждым днём Мироненко становился всё молчаливее и мрачнее…
— Всё что угодно! — услышал однажды ночью его шёпот Субботин. — Всё что угодно я готов принять! Но только не этот идиотский голод!
— Витя, ты что… — шептал ему в ответ Сергей. — Ты о хорошем думай. Держись! Вот выйдем к своим…
— Где они? Где они, свои? — зло всхлипнув, ответил Мироненко. — Вторую неделю идём, а фронта и не слышно. Где они? Что это такое?
— Это война! — сказал Сергей. — Это война! Мне отец говорил: «Война — противоестественное состояние человека!»
— А куда мы этого тащим? Куда?
— Что же, по-твоему, его бросить? Да ты что говоришь! Ты же сам потом от угрызений совести в петлю полезешь!
— Некогда будет совестью мучаться!
— Я тебя не держу! — сказал Сергей. — Я тебе не командир. Ты волен поступать, как хочешь. Но я раненого не брошу!
— Ты не командир? Ты всю жизнь командовал! — закричал Мироненко. — Вожатый вечный! Всю жизнь долдонил: «Надо, надо!..»
— Да брось ты, — сказал Сергей — Это уж так вышло, что я вожатым стал! А надо — действительно надо… Ты что, забыл, как мне в училище доставалось — я же самый дохлый в роте был… Да если хочешь знать, после войны… Я бы музыкантом стал…
— Ты — станешь! Ты как отбойный молоток!
— Нет, — сказал грустно Иванов. — Теперь трубе, извини за шутку, труба… зубов-то нет! Так что закончилась моя музыкальная история… Ты лучше поспи. И пусть тебе приснится королевский ужин…

Им повезло. Они наткнулись на избушку лесника. Лесник сказал, что фронт всего в двадцати километрах, да они и сами это видели по сполохам над лесом, по тому, как упорно шныряла вокруг немецкая полевая жандармерия.
— Двадцать километров! — мечтательно говорил, напившись молока и наевшись картошки, Мироненко. — Неужели только двадцать? Да на карачках проползём, а у своих завтра будем…
Лесник говорил, что здесь фронт не сплошной, пройти можно, и обещал показать дорогу через топь…
Но Сергей был невесел. Он перевязывал раненого и вдруг сказал:
— Ну-ко посмотри…
Мироненко, подавляя отвращение, глянул на культю.
— Да не сюда, — досадливо сказал Иванов. — Эта рана чистая. Ты вот куда гляди…
Вторая нога распухла, и ступня была похожа на студень — серая и холодная, с фиолетовым отливом…
— Узнаёшь? Она самая. Гангрена.
— Ты чего придумал? — со страхом прошептал Мироненко.
— Надо ступню отнимать! — сказал Сергей. — Я на Халхин-Голе в госпитале насмотрелся на эту прелесть. Он у нас к утру умрёт, если мы этого не сделаем.
Это было так страшно, что Мироненко даже не спорил.
— Ничего. Он без сознания. Не почует. А выхода у нас нет! — бормотал себе под нос Сергей.
— Он и так умрёт, — сказал лесник.
— Умрёт так умрёт. Мы сделали всё, что могли, — вздохнул Сергей. — Ставь, старик, таз на плиту и часа два кипяти нож сапожный и пилу… Есть у тебя ножовка?