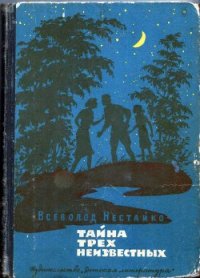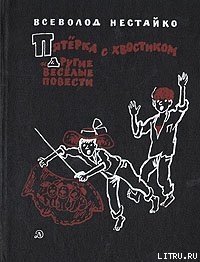Незнакомец из тринадцатой квартиры, или Похитители ищут потерпевшего - Нестайко Всеволод Зиновьевич
— Бессовестные! Бессовестные! Пионеры, называется! Школьники, называется!
Бандиты! Вот я всё расскажу! Всё расскажу в школе! Вот увидите! И родителям вашим расскажу. И твоим, Алик, и твоим, Вовка, и твоим, Эдик. А на тебя, Будка, вообще в милицию заявлю. И тебя в колонию заберут. Вот увидишь! Хлопцы приехали из села в гости к нам в город, а вы их — бить! Да ещё всем гуртом! Нечего сказать — гостеприимные хозяева! Бессовестные!..
Вот так крича, она помогла мне подняться и, взяв за руку, повела. А по пути и Яву прихватила. Наши враги расступились и пропустили нас. Никто даже не пытался нас задержать. Все молчали. И только когда мы прошли, кто-то пронзительно свистнул, и вся ватага, как горох из мешка, сыпанула вниз, в яр. Может, они бы и по-другому поступили, да, наверно, всё-таки решили, что Будка со мной вполне расквитался.
Я шёл пошатываясь и рукавом вытирая пот со лба.
— Молодец, Павлуша! Ух ты ему дал! Ну и дал же!.. Он только дёргался! — восторженно говорил Ява, обнимая меня за плечи. — Ты им всем показал, что такое васюковцы. Молодец!
Мне было приятно это слышать, но брала досада, что Валька этого не видела, что она застала меня уже битым и что она-то вроде бы и спасла меня… Я ей был, конечно, благодарен — кто знает, сколько бы ещё этот Будка стучал об землю моей бедной головой? Но в то же время я чувствовал какую-то неловкость и стыд, что меня спасла девчонка. Такую неловкость, как будто она видела меня голого. И всё-таки я был доволен. По-честному я всё же победил Будку, здорового хлопца, который был крупней меня. И который выбрал меня, считая, что я слабак.
На тропке нас ожидал братишка Микола. Оказалось, это он позвал Вальку. Видел, как нас повели к яру, смекнул, что наши дела дрянь, и побежал за Валькой.
— Ты тоже молодчина, Валька! — сказал Ява. — Одна и не побоялась! Они ж могли и тебя отлупить за компанию…
— Пусть бы только попробовали! Я бы им такого шуму наделала — весь город сбежался бы! И думаешь, я царапаться не умею? Пусть бы кто только тронул, его бы мать родная не узнала!
Ява поглядел на неё с восхищением и толкнул меня локтем в бок: смотри, мол, какая дивчина, вот это дивчина! Я кивнул в ответ: да, дескать, молодец дивчина, бог с ней…
Отряхнули меня Валька с Явой, почистили, как могли, но всё равно вид у меня был, как будто корова жевала. А делать нечего, Максим Валерьянович давно уже ждёт, нужно идти.
Максим Валерьянович шутливо поздоровался с нами («Здравствуйте, милостивые государи!»), потом внимательно посмотрел на меня и неожиданно сделал предостерегающий жест рукой, хоть я и не собирался ничего говорить:
— Ни слова! Всё понимаю. Была вооружённая стычка с противником. Пограничный инцидент. Причин не выясняю, но думаю, нечто чрезвычайно важное — дело чести… Требование сатисфакции. Дуэль. Несмотря на трудности, вы вышли победителем. Так?
Я улыбнулся и кивнул. Какой он всё-таки! С ним как-то сразу становится легко.
Больше Максим Валерьянович ни о чём не стал расспрашивать. Он только сказал:
— Через десять минут должна быть машина. И мы поедем на студию. Вы как раз вовремя пришли.
Однако нам и десяти минут не пришлось ждать. Через каких-нибудь две-три минуты мы услышали, как возле хатки Максима Валерьяновича остановилась машина, хлопнула дверца, и тут же чей-то молодой голос раздался во дворе:
— Максим Валерьянович, я уже тут! Я за вами…
Глава IX. На студии. Неожиданность первая. Неожиданность вторая.
И вот — ворота. Ворота, что отделяют обычный будничный мир от сказочного, волшебного, фантастического мира кино. И как-то обидно, что они на вид такие простенькие и неказистые. И такие низенькие — не то что перелезть, перепрыгнуть можно. Я разве такие бы сделал для киностудии! Ну хотя бы как те… перед Зимним дворцом, через которые в фильме «Ленин в Октябре» матросы перелезают. А то бы и ещё выше. Киностудия ведь, а не что-нибудь!
Ну, а пока что отворяются вот эти низенькие воротца, и мы въезжаем на территорию студии.
Смотрю влево — ух ты, фруктовый сад, да не какой-нибудь маленький, а такой, что конца не видно! Будто мы и не па студию попали, а в совхоз…
— Может, это для артистов… политехнизация… После съёмок работают… — шепчет Ява.
— Наверно, — соглашаюсь я.
Посмотрели мы вправо — стоят друг за другом красочные щиты (вроде тех, какие бывают на шоссе). На одном из щитов Ява прочёл: «Искусство принадлежит народу». «…Из всех искусств для нас важнейшее — кино (В. И. Ленин)».
А на другом щите были такие слова:
«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (А. П. Чехов)».
Я вздохнул: лицо у меня — как будто на нём гвозди забивали; одежда вся измятая, грязная; на душе кошки скребут, как про часы вспомнишь… Лишь в мыслях своих я был великолепен и совершал поступки прекрасные и благородные. Да ведь мысли-то никому не видны…
Мы вышли из машины и следом за Максимом Валерьяновичем направились к дверям киностудии. Вот это — двери! До чего же интересные! Крутятся! Как винт парохода или колесо водяной мельницы (только на попа поставленные). Толкнёшь одну дверь, а другая уж тебя догоняет и по спине лупит. Ну и двери!
Протолкнули нас двери внутрь. Ява только потянул носом воздух и тут же сморщился. И я тоже. Больницей пахло. Там, слева, было что-то вроде амбулатории. Да, подумал я, видно, не такое уж это безопасное дело — кино создавать, раз медицина наготове.
Мы поднялись по ступенькам чуть вверх и пошли длинным-предлинным коридором. Мы с Явой не раз читали про киностудию в книжках (и у Кассиля, и у других), что когда попадаешь туда, то чудеса начинаются сразу же в коридоре:
Пётр I ходит там, обнявшись с Чапаевым, какой-нибудь римский гладиатор прикуривает у Героя Советского Союза, а гордая морская царица рассказывает простой колхознице о том, какую чудесную кофточку купила она вчера в универмаге.
И нам не терпелось увидеть всё это. Мы то и дело озирались по сторонам. А по коридору почему-то ходили самые обыкновенные люди в самых обыкновенных костюмах (некоторые в спецовках, как на фабрике!), и никаких тебе гладиаторов, и никаких царей… Наверно, мы попали в такой день, когда интересных съёмок на студии не было. Не повезло нам!
И вдруг…
— Во! Во! — толкнул меня в бок Ява. По коридору навстречу нам шёл человек в зелёной военной фуражке, в гимнастёрке с портупеей. Высокий, стройный, с суровым лицом…
— По-моему, Кадочников… В роли партизана… — шепнул Ява.
Увидев Максима Валерьяновича, военный приветливо улыбнулся и козырнул. Максим Валерьянович тоже улыбнулся и поздоровался с ним. Когда мы разминулись, я набрался смелости и спросил Максима Валерьяновича:
— А… кто это? Как его фамилия?
— Петренко, — немного удивлённо взглянул на меня Максим Валерьянович. — Прекрасный человек… Пожарник… Отвечает на студии за пожарную охрану.
Тю!..
— Какие-то пожарники пошли… неинтересные, даже касок не носят, — отводя глаза, буркнул Ява.
Долго мы шли узким, полутёмным коридором. И почти все, кто нам встречался (а люди в коридоре толпились, как на Крещатике), здоровались с Максимом Валерьяновичем. Ну просто, как в селе — «здрасте» на каждом шагу.
Наконец Максим Валерьянович остановился у двери, на которой висела табличка: «Съёмочная группа „Поцелуйте меня, друзья!“» За дверью стоял страшный гвалт. Казалось, что там полно людей, которые кричат и ссорятся между собой. Но когда Максим Валерьянович отворил дверь и мы вошли, оказалось, что в комнате всего один человек. Он был уже немолодой (лет за пятьдесят), но ещё бодр и крепок, с огромной копной чёрных волос на голове… Сидя па столе, он ругался по телефону, не смолкая ни на миг и перебивая сам себя:
— Вы, понимаете, съёмку срываете… Что вы мне вчера обещали? Вы обещали солнечную погоду, понимаете… Без осадков! А дали что? Что вы мне дали, понимаете… Поглядите в окно! — Он ткнул рукой в сторону окна. — У вас есть окно? Полюбуйтесь, понимаете! Осадки, чтоб им пусто было! Полное небо осадков! Осадки, и никакого, понимаете, просвета…