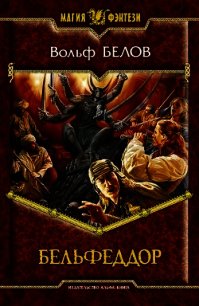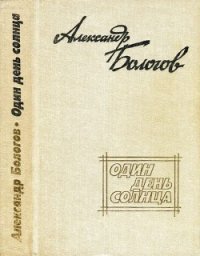Колесо племени майя - Дорофеев Александр (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
И он часто любовался ими, чтобы заснуть, избавиться на время от сомнений и, как можно скорее, увидеть Бехуко.
Разбой на пирамиде
Обезьяна
В 1618 году, когда Чанеке уже исполнился 71 тун, в Тайясаль прибыли два монаха-францисканца из города Мерида.
В своих длинных черных балахонах с капюшонами они напоминали обезьян-мириков. Одного звали Хуан, другого – Бартоломео.
Монахи очень удивились, застав на острове такое тихое допотопное бытие.
Совершенно дикое, по их мнению, – как в зверинце, где не звучит слово Божье. И это в те просвещенные времена, когда почти всюду установлена власть испанских конкистадоров и католической церкви!
Чанеке хорошо принял монахов. Хотелось услышать от них слова о новом, неизвестном ему Боге.
И они рассказали о смерти на кресте, искупившей грехи всего человечества, и о воскресении Сына Божьего.
Они убеждали немедленно креститься в водах озера Петен-Ица и принять нового Бога, оставив своих в прошлом, зато обретя вечную жизнь.
Когда-то Чанеке, путешествуя с отцом по сельве, очутился на развалинах города Паленке, который просуществовал, как говорили, тысячу лет. И в одном из храмов видел лиственный крест. Шель сказал, что это источник жизни – крестообразный маис. А на нем сидела птица кетцаль. Теперь он вспомнил и о сыне Цаколя-Битоля – пернатом змее Кукулькане, который пожертвовал собой, чтобы возродить людей.
– Бог, я думаю, меняется со временем, как и человек, – сказал Чанеке.
– Большей бессмыслицы никогда не слыхал, – поморщился брат Хуан.
– А разве Творец не сомневается? – спросил Чанеке. – Если бы не сомневался, откуда в нас сомнения?
– За такую ересь сразу бы на костер! – воскликнул пылкий Хуан.
– Да неужели ваш Бог настолько обидчив, что не терпит иных взглядов? – удивился Чанеке. – По-моему, Творец любит нас как сыновей…
Хуан с горящими глазами перебил его:
– Какие сыновья?! Все мы – рабы Божьи!
«Этот, как фрукт гуайява. С виду – яблоко, а по вкусу – груша», – подумал старик Чанеке и продолжил:
– Еще я хотел сказать, что в основе нашего мира – двуединство. Небо и земля. Жизнь и смерть. Любовь и ненависть. Люди и боги. Рабство и свобода.
– Творец един в трех лицах, – строго заметил Бартоломео. – И никакого раздвоения!
Чанеке понял – беседа ни к чему не приведет. Ему не убедить монахов, что люди – дети Божьи, и все на земле – братья.
Впрочем, испанцы знали это, но не хотели почитать индейцев за своих братьев. Более того, думали о них как об исчадиях ада.
Монахи прошлись по городу, недоверчиво разглядывая дома, дворцы и замки. Повсюду им чудился дьявольский дух.
А когда, поднявшись на пирамиду, вошли в храм Циминчака, – остолбенели!
Ничего подобного им не доводилось видеть. С пернатыми змеями, ягуарами и прочими клыкастыми, клювастыми и лупоглазыми идольскими мордами они уже кое-как свыклись.
А тут с высоты благосклонно взирал белый конь в натуральную величину. У ног его лежали подношения – от маисовых лепешек до нефритовых браслетов – и дымилась ароматическая смола копаль.
Монахи воздели очи к небу, но и там не нашли утешения – с потолка храма на цветных веревочках свешивались усохшие лошадиные мощи. А именно, две ноги и череп, окуриваемые благовонными травами.
Брат Хуан побелел, как статуя, и в сердцах ухватил тяжеленный жертвенный камень. Когда-то его поднимали на пирамиду пятеро дюжих работников.
С именем Божьим на устах Хуан метнул эту глыбу в идола.
Раздался удар, подобный грому, и все сгинуло, окутавшись плотным белым облаком.
Услыхав голос Громового Тапира, успели собраться горожане. И теперь, потрясенные, наблюдали, как голова Циминчака, подпрыгивая и крошась, катится по ступеням пирамиды.
Когда же пыль наконец осела и в храме прояснилось, все ахнули, увидев, что черные монахи превратились в белых, а безголовый Циминчак мерно покачивается, готовясь то ли поскакать, то ли рухнуть.
«Надо же, треснул! – изумился про себя Чанеке. – Хоть одна моя просьба услышана!»
Он с детских лет недолюбливал Циминчака, но сейчас, когда его изуродовали, пожалел и даже поддержал, не дав упасть и окончательно разбиться.
Конечно, от гостей-монахов не ожидали подобного зверства!
Их схватили и потащили на площадь, пиная и проклиная. Какой-то носильщик-тамеме, сбросив с плеч поклажу, исхитрился укусить брата Хуана за щеку.
Монахи горячо, поспешно молились, понимая, что души их в самом скором времени отлетят на небеса. Над ними уже клубились белые облачка пыли.
Чанеке смотрел с вершины пирамиды, как Хуана и Бартоломео швырнули посреди площади подле каменного столба, изрезанного письменами.
Их бы наверняка растерзали, растоптали, выдернули руки, ноги и головы, если бы не запела раковина жреца.
– Стойте! – приказал Чанеке. – Отведите их в замок воинов. Там я решу их участь!
Монахов в разорванных балахонах приволокли в замок и бросили на пол между двумя рядами тонких узорчатых колонн.
Толпа
Щетка
Многие в городе были недовольны. Толпа на площади требовала смерти пришельцев.
Особенно бушевали братья Балам и Бошито. Они уже предвкушали, как натравят на монахов дикого кота-оселотля, а затем скормят их останки крокодилам.
Но Чанеке полагал, что толпу надо всегда останавливать. В этом, как в целительстве, не было сомнений. Толпа – болезнь, вроде сглаза или дурного воздуха. Если не вмешаться, она нарушит здоровое течение жизни.
«Хотя в случае с монахами ее гнев понятен, – задумался Чанеке, подходя к замку воинов, – являются незваные и учиняют погром в храме, где молятся сотни людей! Возможно, я отдам их на растерзание, но прежде поговорю»…
Монахи оказались крепки духом. В ссадинах и кровоподтеках, изодранные, но пощады не просили.
Хуан, правда, затравленно озирался, готовый огрызнуться, как загнанный волк. А Бартоломео вообще глядел спокойно, чуть ли не улыбаясь.
Казалось, ему заметен дух сомнения, терзающий Чанеке.
– Что с нами сделают, ахав? – спросил он так, будто интересовался, какие блюда подадут к обеденному столу.
– На костре вас не сожгут! – успокоил Чанеке. – Это у нас не принято. Обычно вспарывают грудь обсидиановым ножом и вырывают сердце! Хотя могут быть другие истязания… Слышите шум толпы?
– Мы станем мучениками за веру! – срывающимся шепотом произнес Хуан. – Что лучше такой смерти?!
– Я думаю, что лучше жизнь, – возразил Бартоломео.
Чанеке улыбнулся:
– Если попросите Цаколя-Битоля, вас помилуют!
– О, дьявольское имя! – сморщился Хуан, затыкая уши и придерживая укушенную щеку. – Противен даже звук!
– Я лишь предлагаю обратиться к Творцу, – пояснил Чанеке, – как бы ни звучало Его имя на разных языках, Творец един для всех народов. Ведь все мы созданы по образу и подобию Его духа!
Бартоломео приподнялся с каменных плит:
– Надеюсь, не его идола разбил пылкий брат Хуан? – спросил он. – В таком случае я обращусь к Всевышнему Творцу. Как звать по-вашему?
– Цаколь-Битоль, – подсказал Чанеке.
Бартоломео встал на колени и поклонился:
– Убереги нас, Цаколь-Битоль! Спаси от нелепой смерти на этом прекрасном острове!
– Отступник! Прельщенный сатаной! Анафема тебе! – в бешенстве заорал Хуан, подскакивая с пола. – Режьте меня, рубите – плевал я на ваше поганое божество!
Чанеке с грустью поглядел на монаха:
– Увы! Ты презираешь не его, а всех нас, живущих среди сельвы. Хотя даже не знаешь, за что! Да ты, я думаю, не знаешь и своего распятого Бога, потому что не могло быть в нем презрения и ярости. Это чувства толпы, которая буйствует в твоей голове. Я бы исцелил тебя, да не моя забота. Ступайте с миром…
И Чанеке велел перевезти монахов через озеро, снабдив пищей на семь кинов пути.
Пока Хуан и Бартоломео плыли в пироге, не перемолвились и словом. Даже не смотрели друг на друга, укрывшись капюшонами.