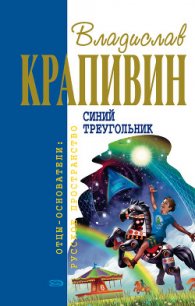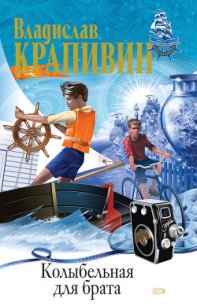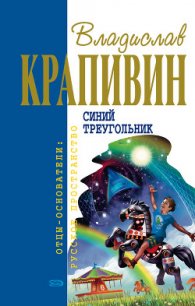Синий треугольник (сборник) - Крапивин Владислав Петрович (читать книги онлайн без .txt) 📗
«Ну, я задам этому трубочисту», — пообещала девочка и укатила.
«Непонятно, кого она имела в виду», — сокрушенно скажет нам Мотя.
«Меня», — гордо сообщит Ерошка и, улыбаясь, ляжет щекой на стол.
Мотя снова скажет о машине, но Ерошка уже будет спать, причмокивая губами рядом с тарелкой, где останется недоеденной рисовая каша с повидлом.
Ерошку мы уложим на топчане, под холщовой декорацией, изображающей пароходную палубу. Травяной и Песчаный Заяц с перемазанной повидлом рожицей уляжется у него в ногах. А мы с Мотей будем сидеть за бутылочкой «Каберне» и разговаривать до середины ночи. О чем? Ну, это отдельная повесть…
Утром, после завтрака, Мотя вновь напомнит про машину. Но мы с Ерошкой двинемся пешком. Славно идти не спеша, когда впереди только хорошее. Ожидание хорошего — это уже само по себе радость.
(ВРОДЕ КАК ЭПИЛОГ. ДА?..)
…Ерошка в самом деле завел себе собаку и назвал ее Макака`. Это милая кудлатая дворняга с желтыми глазами и репьистым хвостом. Очень дружелюбная. Она сразу подружилась с котенком Томасом, которого принесла откуда-то Еська. А еще у нас живет лошадка-пони, которую зовут Шоколад. Еська утверждает, что «шоколадное» имя приносит счастье. Мы все знаем, что Шоколад — это обросшая коричневой шерстью деревянная коняшка, которая принесла Еську прямо в Город, избавив ее от многих опасностей и бед…
Обитает у нас в доме и Травяной (и Песчаный!) Заяц, но он — личность, как говорится, неконтактная. Предпочитает сидеть в полутемных закутках и кладовках. Только с Макакой у него дружба. Ночью вместе спят на широкой летней веранде, за бочкой с громадным фикусом.
Впрочем, иногда Заяц надолго исчезает — шастает по травяным и песчаным пустошам за Городом. А возможно, и где-то дальше. Не исключено, что он навещает Синего Треугольника, который, как мне кажется иногда, все еще дремлет в ящике письменного стола.
Хотя это, конечно, ерунда. Ерошка наверняка прав: Синий Треугольник везде. Например, прямо над нами. Крыша нашего мезонина, высокая кирпичная стена-брандмауэр и стоящий на пригорке забор соседского сада своими кромками образуют над заросшим двором треугольник. И в этом треугольнике синеет летнее небо.
Здесь почти всегда лето (за исключением двух-трех рождественских и новогодних недель) — в Городе, где мы живем. В Городе, где перемешаны деревянные улицы Тюмени (и Малогды) с приморскими переулками Гаваны и Севастополя, где покрытые бурьяном откосы Туры соединяются с желтыми слоистыми обрывами Херсонеса; где старинные крепости с поржавевшими рыцарскими латами в каменных нишах отданы для игр и приключений городским мальчишкам и девчонкам; где из мелкого, поросшего камышом Андреевского озера можно городскими оврагами, по речке Тюменке за полчаса добраться до морского залива за мысом Два Кузнечика; где добродушные (никогда не обижающие воробьев) коты сонно греются на чугунных пушках старых бастионов и на теплых, брошенных на песке адмиралтейских якорях…
Бывает, что Ерошка целыми днями носится с друзьями-приятелями по крепостным дворам и заросшим откосам. Приходит к вечеру — в синяках и белых ссадинах на загаре, в колючках и пыли.
— Чучело приморского базара, — сурово говорит Еська. — Волосы прилизывает, а нос и локти как у папуаса…
И она берет мочалку, наливает в большущий таз горячую воду.
— Ма-а!.. — воет Ерошка. — Ну чего она! Опять хочет мойдодырить!
— И правильно, — говорит Серафима. — Если бы не Лена, ты зарос бы лишаями.
Вообще-то Ерошка и Еська живут дружно. Однако бывают изредка стычки. Или потому, что он неряха, или оттого, что не хочет показывать сестре стихи, которые сочиняет. Бывает, что приткнется у подоконника и выводит в тетрадке корявые строчки, а она подкрадется — и зырк через плечо!
— Мама! Ну чего она лезет!
— Я не лезу! Я только одним глазком! Жалко, да?
— Жалко знаешь где? У пчелки в…
— Мама, а он выражается!
— А ты ябеда! — И у Ерошки намокают глаза.
Надо сказать, он характером послабее сестры, даже плаксивее. Но я читал у каких-то педагогов, что в таком возрасте мальчики часто плаксивее девочек. Потом это проходит. К тому же я помню (хотя уже смутно, будто давний сон), как он догонял меня. Хотя на любимой Ерошкиной футболке с кузнечиком и надписью «SERAFIMA» не осталось ни малейших следов мишени и бурых пятен.
Иногда я все же считаю долгом укреплять Ерошкин характер. И говорю:
— Что ты скандалишь, как девчонка. Будешь так себя вести, ухи накручу.
Ерошка не оспаривает отцовское право накрутить ему «ухи». Но тут же делает финт:
— Ладно, накрути… А за это возьмешь меня с собой на шхуну! Ну, па-а…
Дело в том, что я готовлюсь к путешествию. Шхуну «Томас Манн» недавно передали местному обществу журналистов-географов, и я собираюсь в плавание — до Панамского перешейка, потом через канал, вдоль берегов Южной Америки, мимо мыса Горн, в Австралию и дальше до Владивостока. Что делать, раз книжка издана и продается, а я еще не ходил в море. Кто-то перепутал корпускулы времени на темпоральном векторе, и теперь надо исправлять положение, чтобы в мире, где живет Город, не было путаницы. Впрочем, я ничуть не жалею. Путешествие будет замечательным. Я беру с собой клеенчатую тетрадь с листами в клеточку. Может быть, именно она станет заветной тетрадью, которую я безуспешно искал во многих своих снах…
Капитан шхуны Станислав Язвицкий и боцман Жора неторопливо и тщательно готовят судно к долгому рейсу. Не спеша, внимательно подбирают экипаж. Предусмотрительный Жора заранее заказал в мастерской треугольный парус-кливер из ярко-синей парусины. Катерную пристань в Малогде Жора оставил на Танкиста. Говорит, что якобы тот за последнее время поумнел и обрел кой-какое трудолюбие. Ох, не знаю… Впрочем, ну его, Танкиста. Мне хватает проблем с Ерошкой. Ерошка то и дело пристает, чтобы я взял его в плавание. Конечно, это бред! Серафима тоже так говорит. И даже Еська. Но Ерошка все равно канючит каждый день.
— А школа! — говорю я тоном самого рассудительного папаши на свете.
— Я буду читать учебники самостоятельно! Каждый день по шесть часов!
— Тебя и на полчаса за уроки не усадишь, — напоминает Еська (ей-то совсем не хочется в плавание; она занимается в детской студии «Волшебная кисть» и собирается стать дизайнером).
— Это здесь не засадишь! А там…
— А там ты свернешь себе шею, — сообщает Серафима. — В книжке что написано?! «Ерофей был неугомонен и то и дело забирался на верхушку фор-мачты…»
— Не «фор», а «фок»! — голосит Ерошка. — И не на «верхушку», а на «клотик»! И не я это вовсе, а корабельный кот!
— Ты же сам говоришь, что кота звали Томас, — напоминает Серафима.
— Это на верфи был Томас! А на шхуне… Сама ничего не помнишь, а сама говоришь! Или ты нарочно, да?!
— Ты как с матерью разговариваешь! — считаю я необходимым возвысить голос.
Ерошка обижается всерьез. И уходит жить к любимой бабушке. К моей маме. (Я до сих пор содрогаюсь, вспоминая дурацкие сны, будто мамы нет на свете.) Бабушка жалеет Ерошку. Ей, конечно, тоже не хочется, чтобы любимый внук уходил в моря-океаны (страх такой!), но еще больше не хочется, чтобы он ронял слезы. Мама звонит нам и укоряет за бесчувственность к ребенку. Еська начинает печалиться. Мы с Серафимой тоже. Сперва не подаем вида, но к вечеру печаль и муки совести делаются сильнее педагогических принципов. И мы отправляем за Ерошкой Травяного Зайца. Тот, поворчав, садится на Шоколада и едет на Шестую Бастионную, к моей маме. Привозит несчастного «изгнанника».
— Хватит уж дуться-то, — говорю я Ерошке. — Стыдно, честное слово. Не маленький уже…
— Ладно… А возьмешь на шхуну?
Ну, что тут делать? Начинать все снова?
Приходится сказать:
— Посмотрим на твое поведение.
— Ура!! — Ерошка встает на голову и стоптанной «лёпой» сшибает с полочки разноцветную Еськину гуашь. Еська — ради всеобщего мира — делает вид, что это пустяк.