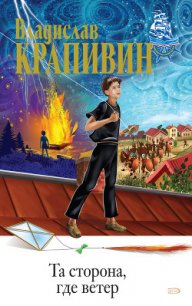Тень каравеллы - Крапивин Владислав Петрович (читать книги полностью .TXT) 📗
Однажды Павлик подошел к моей двери:
— Владька…
— Что? — откликнулся я, и сердце у меня подпрыгнуло.
— Ну, открой.
— Зачем? — капризно сказал я. Дурацкое упрямство подавило секундную радость.
— Просто так, — тихо сказал Павлик.
— «Просто так» делает дурак, — холодно сообщил я.
Павлик помолчал. Потом медленно спросил:
— Трудно, что ли, открыть?
— Мне мама не разрешает никому открывать.
Павлик постоял еще и зашагал к себе, шлепая по полу оторванной подошвой подшитого валенка. Потом я услышал, как он оделся и ушел из дома.
Я все еще стоял и смотрел на дверь, которую не открыл. Она была в желтых чешуйках облупившейся краски. По чешуйкам, неловко семеня, спешил вверх маленький серый паук.
Я вернулся в комнату, лег на кровать и отвернулся к стене. В доме было тихо и пусто.
…Через неделю Павлик с матерью уезжали. Не знаю точно, что случилось. Подруга тети Ани уступила им не то навсегда, не то на время маленький свой дом на соседней улице, а сама куда-то укатила.
Я стоял, прижавшись щекой к стеклу, и смотрел, как Павлик уезжает.
День был теплый, но серый и скучный. Низкорослая печальная лошадь подтянула к крыльцу широкие сани. Круглые бока лошади были сырыми. Волос на них слипся в кривые короткие сосульки.
Где-то среди веток отчетливо и громко кричал воробей: «Чиф!.. Чиф!.. Чиф!..» Лошадь дергала ушами. Ей, наверно, не нравился этот надоедливый крик. Мне он тоже не нравился.
Анна Васильевна и Павлик выносили вещи. Знакомые стулья с «петушиными» спинками, тумбочку с фарфоровым шариком вместо ручки, желтую этажерку. Под открытым небом эти вещи казались маленькими и какими-то беззащитными. Стали хорошо видны их царапины и заплаты.
Павлик вынес одноухого медведя. Он поставил его на облезлый чемодан. Однако чемодан лежал криво, и медведь медленно поехал с желтой клеенчатой спинки. Павлик снова взял его на руки и сам устроился на чемодане, уцепившись локтем за ножку перевернутого стола.
Я торопливо отошел в глубь комнаты: показалось, что Павлик сейчас обязательно взглянет на мое окно. Он не взглянул. Сидел и смотрел на своего медведя, будто в первый раз увидел. Наверно, нарочно. Ну и пусть!
Анна Васильевна тоже села в сани. Вещей набралось немного, ей хватило места. А возчик не сел. Он дернул лошадь за повод и повел со двора. Сани описали на сыром снегу широкий полукруг и поползли в открытые ворота. Павлик зажал медведя между колен и теперь держался за ножку стола двумя руками. Он сидел съежившись, и я не видел его лица. Видел только серую ушанку с распущенными завязками. Потом сани скрылись за распахнутой половинкой ворот.
«Чиф!.. — орал бестолковый воробей. — Чиф!..»
— Дурак, — сказал я ему. Чтобы не зареветь.
Пошли одинаковые, серые дни.
Нельзя сказать, чтобы грызла меня все время тоска. Нет. Ведь надо было и в школу ходить, и домашние задания готовить. Надо было и в овраг сбегать, где по-прежнему катались с крутых склонов мальчишки. Погода стояла непонятная: не весна и не зима. Но снег еще держался. Я приходил домой в сумерки, промокший, со снежными крошками в валенках. Уставший и потому сердитый. Раздевался, не отвечая на Танькины упреки. Потом садился на кровать лицом к стене и устраивал для себя «кино»: старался так сложить пальцы, чтобы тень от них стала похожа на какого-нибудь зверя. Я хорошо умел показывать «орла», «зайца», «собаку», «слона», но одни и те же фигуры надоедали быстро. Я начинал придумывать новые. Не очень веселая была эта игра, но все-таки…
Татьяну раздражало мое молчание. Она не выдерживала:
— Ну что за человек! Сопит, молчит весь вечер! Какие-то кукиши показывает! Смотреть тошно…
Если мы были одни, я отвечал не оборачиваясь:
— Не смотри.
Если дома была мама, я со слезами в голосе требовал справедливости:
— Мама, ну что она привязывается!
Мама заступалась:
— Не трогай ты его…
— Смотреть тошно, — повторяла Татьяна.
Разозлившись, я показывал ей настоящий кукиш.
Однажды я слышал, как мама Татьяне сказала:
— Неужели не понимаешь? Скучает он один. Раньше-то как хорошо было…
Потом она спросила меня:
— А почему Павлик ни разу не пришел? Он ведь недалеко живет.
Если бы она знала! Но она не знала ничего. Не потому, что я привык скрывать. Просто я чувствовал, что мама здесь не поможет.
Павлика я видел в школе каждый день. Издалека видел. И он меня замечал, конечно, только не подошел ни разу. Ну, и я не подходил. Просто я был уверен, что старого не вернуть, раз затрещала и пошла ко дну наша Каравелла. Раскололась дружба. И Павлик, видимо, решил так же.
«Кино» на стене мне скоро надоело, и я придумал другую игру.
Иногда мама приносила с базара кульки с кедровыми орехами. Ух, как я их любил! Щелкал я их лучше всех, как белка. Я не жевал по одному ядрышку, а собирал целую горсть и потом уже отправлял в рот. И все же я понял наконец, что самое ценное в орехах не ядра, а скорлупа. Потому что каждая скорлупка — кораблик.
Я наливал воду в синюю пластмассовую тарелку, выстраивал вдоль полукруглых берегов ореховые эскадры. Они готовились к схватке, потом сходились в бою. Шли на таран, на абордаж… Наполнившись водой, скорлупки шли на дно, как настоящие корабли.
Тихая была эта игра. Если со стороны смотреть, то, наверно, скучная. Но я не скучал. Здесь требовалось искусство, почти как в шахматах. Надо было знать, когда идти в обход, когда бросаться в атаку, когда открывать огонь или уходить под прикрытие мыса Чайная Ложка.
Был в этой игре отголосок наших с Павликом корабельных вечеров. Слабый отголосок…
Особенно мне нравились скорлупки от высохших орехов. Тонкая кожица пустых ядрышек ссыхалась и торчала из скорлупы длинными стерженьками. Как мачты. Такие кораблики с мачтами я ставил во главе эскадр и соединений.
Мама иногда молча смотрела, как я спичкой передвигаю в синей тарелке боевые корабли. Я чувствовал, что она смотрит, но не оглядывался. Мне казалось, что маме почему-то грустно.
Только один раз мама сказала:
— Капитан ты мой… Вот найти бы тебе грецкий орех. Из него бы получился корабль…
— Какой это грецкий? Греческий?
— Да нет. Просто такое название. Это большие орехи, вот такие. — Мама сложила в кружок пальцы.
Я не поверил. Не бывает таких орехов.
Мама улыбнулась:
— Ты забыл. Когда ты был маленький, у нас такие орехи висели на елке.
Ну, если когда маленький, тогда другое дело. Маленьким я был до войны.
Тогда, говорят, не было хлебных карточек, был дома папа, а в магазинах продавались настоящие альбомы для рисования.
Мне расхотелось играть. Я сел к окну. В этот вечер не были почему-то закрыты ставни. Я увидел темно-зеленое небо, снежные ветки и маленький желтый месяц. Он сидел на скворечнике, как забравшийся на крышу мальчишка. Я отодвинулся. Месяц прыгнул со скворечника и повис среди мелких звезд, слегка опрокинувшись на спину. Он был похож на половинку золоченого грецкого ореха. Я вспомнил такие орехи, покрытые золотистой пылью. Среди густой темной хвои они поворачивались на длинных нитках. По ним прыгали крошечные зайчики от желтых свечек.
Свечки тихо шептались. Блестели шары. Пахло праздником и сказкой.
Мне бы один такой орех из той сказочной жизни, когда я был маленький. Даже не орех, а скорлупу. Я смастерил бы из нее флагман для своей эскадры, крутобокую бесстрашную каравеллу…