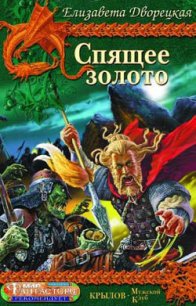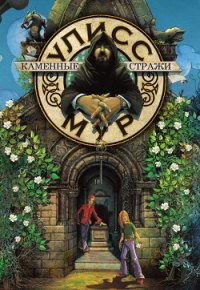Сокровища ангуонов - Матюшин Михаил Ильич (версия книг txt) 📗
Жалобно пискнул кулик, черкнув крылом над моим ухом, и пропал.
О гробнице я вспомнил лишь тогда, когда открыл калитку и оказался во дворе музея. Часовые не остановили меня, а тот, что сидел на крыльце, даже открыл дверь. А если бы и остановил? Ну и что же? Ничего не изменилось бы, все равно все против меня. А папка? Эх, папка, думает, я ничего не понимаю… Посмотрел так, хоть уходи обратно. Разве я не заметил, как он недовольно нахмурился? Даже не спросил, где я был в такую рань, ему, наверно, было бы лучше, если бы я не вернулся вовсе.
Ему было бы лучше.
ГАМЛЕР МЕНЯЕТ МАРШРУТ
На этот раз, прежде чем войти в дом, Гамлер вежливо постучал. Он вошел, окинул быстрым взглядом наше пристанище и, очевидно, остался доволен, спросил, тонко улыбнувшись:
— Надеюсь, приготовления закончены?
— Жду ваших указаний, — сдержанно ответил отец и добавил: — Между прочим, вы напрасно не сменили формы. В своих сапогах вы далеко не уйдете.
— Совершенно с вами согласен и поэтому еще с вечера отдал необходимые распоряжения, — сказал Гамлер и почтительно пояснил: — Все экспедиционное снаряжение заблаговременно погружено на шхуну. Надеюсь, там и для меня найдутся куртка из великолепной парусины и мягкие сапоги, подобные вашим. — Отец был одет несколько необычно: в унты, синюю куртку и кожаную шляпу, похожую одновременно на зюйдвестку и панаму. Поверх шляпы у него была наброшена частая сетка-накомарник. Примерно так же облачился и я, только вместо кожаной шляпы мне пришлось довольствоваться старенькой фуражкой. Колчан, набитый стрелами, и лук дополняли мой наряд.
— Талькав, Монтигомо Ястребиный Коготь! — восхитился Гамлер, смешно округлив глаза за стеклами пенсне. Впрочем, он тут же согнал с лица улыбку, сказал, обратившись к отцу: — В целях осторожности мне показалось возможным несколько изменить предполагаемый маршрут. Вы ничего не будете иметь против, если наша экспедиция проделает десяток-другой миль морем?
Как я заметил, Гамлер хотел смутить отца, но тот будто не расслышал.
— Сядем, Клим, перед дорогой, — сказал он. — Кто знает, доведется ли нам вернуться сюда.
Он сел, и я примостился рядом, поставив лук между колен. Гамлер с серьезным видом последовал нашему примеру, присел на край стула. Вот когда я впервые по-настоящему поверил в то, что сокровища ангуонов действительно существуют. До этой минуты я только играл в них, как играет ребенок в коня, оседлав ивовый прут.
Мы сидели совсем немного, но за это короткое время я успел так много прочувствовать и пережить, что потом, уже повзрослев, ни разу не усомнился в своих выводах, сделанных в последнюю минуту своей жизни в музее. Я понял тогда, что бывает в жизни человека такое, когда он нежданно-негаданно вдруг прозревает. Мне стало неловко, я начал стаскивать колчан. Отец ласково остановил меня, взяв за руку.
— Не надо оставлять, Клим, — сказал он, — не надо. Это мы возьмем с собой.
Ему не хотелось расставаться с моим детством.
Я до мельчайших подробностей запомнил то далекое-далекое утро. До сих пор видятся мне в голубоватом сумраке комнаты моя разобранная постель, оплывшая свеча на столике и думка в окне. Мамина думка. И еще запомнилась цепь, несуразно длинная с блестящей гирей у самого пола. Часы стояли. Отец не подтянул гирю с вечера, и они остановились, удивленно приподняв стрелки.
Второй причал, куда привел нас Гамлер, был самым оживленным местом нашего города. Сюда, обогнув красное здание кинематографа «Арс», круто сбегали две улочки. Едва соединившись, они внезапно обрывались у моря, срезанные причальной кромкой. И, словно оттого, что улочки были так круты, каждый день скатывался к морю торговый люд, и воздух, нашпигованный запахами земли и моря, разбухал от разноголосого гула. Торговали всем: стоптанными сапогами и ворванью, огурцами и дынями, корюшкой, навагой, трепангами. Разноцветные лодки так плотно набивались между двумя деревянными пирсами, что по ним можно было ходить, не опасаясь свалиться в воду.
Так было почти всегда, но в то памятное для меня утро второй причал встретил нас подозрительной тишиной. Не скрипели трапы под ногами рогульщиков, а лодки будто все разом испарились, уступив место зеленоватой шхуне с непонятным названием «Дафна».
Бушприт шхуны представлял собой женскую фигуру, возникшую из деревянной волны. Подбородок у русалки был неестественно вытянут, рот полураскрыт, будто она звала на помощь. Так мне показалось, наверное, оттого, что в то время я не знал мифа о рождении Дафны из морской пены, или, быть может, оттого, что я чувствовал какую-то обреченность. Отец хмурился, Гамлер шутил:
— Не правда ли, господин Арканов, в этом есть нечто романтическое. Вы не находите? — он предупредительно посторонился, пропустив нас к трапу, и продолжал: — Представьте, когда я вчера увидел эту красавицу-шхуну у причала, мне показалось, что она возникла из морской волны! Должно быть, сам Аполлон…
— Бросьте, Гамлер, — оборвал его отец, — покажите-ка лучше нашу каюту. Ребенок хочет спать.
Ребенок — это я. А ведь мне именно в то утро двенадцать лет стукнуло. Какой же я ребенок? Коська вон на целый месяц младше меня, и никто с ним особенно не церемонится, сам слышал, как ему Илья сказал: «Не дури, не маленький, длинные штаны носишь».
«Эх, Коська, Коська, обидел ты своего друга, на всю жизнь обидел!» — горестно думал я, озираясь по сторонам. Неспокойно, тревожно было на душе у меня, не радовало, что заправским путешественником вступил я на палубу настоящей шхуны. Любой мальчишка лопнул бы от зависти, если бы увидел меня сейчас, а мне было совсем невесело. Над Песчаным мысом клубился туман, медленно скатываясь за скалы, по бухте плавали какие-то доски и ящики, на одном из них, нахохлившись, сидела чайка; голые пирсы, причал, заваленный бочками и рогожными кулями, — все было таким неприветливым, неуютным. Скорей бы отчаливала шхуна, чтоб не видеть постылого берега: в море, говорят, всегда лучше, если человеку одиноко. Пойду в каюту, лягу и не встану, буду лежать, лежать…
Бросив прощальный взгляд на причал, я чуть не вскрикнул от радости: у ближайшего пакгауза, примостившись на ржавом якоре, сидел Коська. Когда он успел появиться, было совершенно непонятно.
Я сделал вид, что у меня развязались ремешки на улах, а сам во все глаза смотрел на своего друга, теряясь в догадках: откуда он узнал, что мы с отцом окажемся на шхуне?
В неизменной тельняшке, выгоревшей так, что едва различались полоски, в порыжевших парусиновых штанах Коська выглядел не слишком внушительно, но сейчас он представлялся мне каким-то сказочным принцем, явившимся в уснувший порт затем, чтобы вызволить нас. Вот только зачем он прихватил с собой удочку и банку с наживкой? Всем ведь ребятам с Матросской улицы и Рабочей слободки было хорошо известно, что именно в этом месте, у якоря, рыба совершенно не клюет. Об этом Коська не мог не знать. Недаром же однажды он поднял меня на смех, когда я предложил ему попытать счастья у ржавого якоря: мол, здесь можно поймать все, что угодно — от консервной банки до штанов утопленника, только не рыбу. Нет, не рыбачить явился сюда Коська, слишком практичным он был человеком, чтобы попусту тратить время. Не иначе как для маскировки удочку захватил. Я хотел окликнуть его, но не окликнул, Гамлер был рядом, зачем ему знать о том, что Коська мой друг?
— Лицо Робин Гуда омрачилось, он гневно посмотрел на врагов своих, — пошутил Гамлер и широким жестом пригласил нас следовать за собой, — но Робин ошибся: не темница, а королевский замок гостеприимно раскрыл перед ним свои вековые двери.
Перед тем как спуститься вниз, я еще раз оглянулся, но Коську не увидел. Он исчез так же внезапно, как и появился, забыв на лапе якоря банку с наживкой.
СНЫ И ЯВЬ
Теперь, когда прошло столько лет, пережитое в детстве представляется мне таким, будто все это я вычитал из приключенческой повести, будто не я, а кто-то другой был героем ее. И порой мне кажется, что в повести не все концы сведены с концами. В самом деле, почему я ничего не сказал отцу о гробнице, а он даже не спросил в то знаменательное утро, где я был в такую рань? И еще: почему часовые пропустили меня в музей? Возможно, им было приказано всех пускать и никого не выпускать?.. Словом, к автору приключенческой повести я мог бы предъявить множество претензий, если бы этим автором не было само мое детство. Сны и явь так тесно сплелись в моей памяти, с такой рельефностью отпечатались в ней, что порой я не могу провести резкой грани между ними, не хочу проводить: сны и явь беспокойного детства одинаково дороги мне.