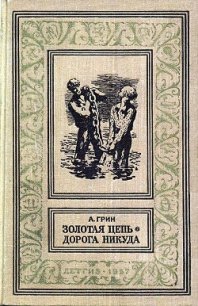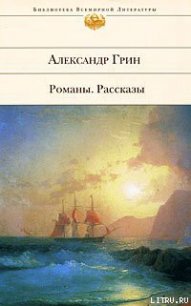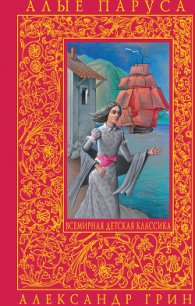Алые паруса. Золотая цепь. Дорога никуда(Феерия, романы) - Грин Александр Степанович (список книг TXT) 📗
Действительно, унести Тиррея было нельзя. На узком повороте, прикрытом от глаз дворового надзирателя распахнутой створкой двери лазаретного входа, человек мог проскользнуть незаметным, только прижимаясь к стене и заглушая свои шаги. Галеран пошел к выходу, мысленно подтащил сюда Тиррея и увидел, что, если больной даже не вскрикнет, — все они будут мгновенно пойманы. Тащить тело втроем оказывалось таким действием, которое требовало еще одного метра скрытого от глаз надзирателя пространства, и то при условии, что гравий не хрустнет, а усиленное дыхание четырех человек не нарушит тишину тюремного двора. Возвратясь, Галеран с отчаянием посмотрел на Тиррея.
— Ну, как-нибудь, Давенант!
Видя горе своих друзей, бесполезно рискующих жизнью, Давенант сосредоточил взгляд на одной точке стены, поднял голову и напрягся соскользнуть с койки. Две-три секунды, поддерживаемый Галераном, он дрожал на локтях — рухнул, закрыв глаза и сдержав стон боли таким неимоверным усилием, что жилы вздулись на лбу.
— Неужели не пощадят? — сказал Галеран. — Ведь он не может даже стоять.
— Повесят в лучшем виде, — отозвался Ботредж. — Бенни Смита вздернули после отравления мышьяком, без сознания, так он и не узнал, что случилось.
Глотая слезы, Стомадор схватил Галерана за плечо, твердя:
— Довольно… хватит. Я больше не могу. Я буду стрелять. Мне теперь все равно.
— Уходите, — тихо произнес Давенант, — не мучайтесь. Мне хорошо, я спокоен. Я сейчас живу сильно и горячо. Мешает темная вода, она набегает на мои мысли, но я все понимаю.
— Напасть на ворота? — сказал Ботредж.
Ему не ответили, и он тотчас забыл о своем предложении, хотя приготовился ко всему, как Стомадор и Галеран. Их состояние напоминало перекрученные замки.
Взяв руку приговоренного, Галеран стал ее гладить и улыбаться.
— Думай, что я слегка опоздал, — шепнул он. — Мне тоже осталось немного жить. Делать нечего, мы уйдем. Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?
— Нет. Немного горько, но это пройдет. Едва увиделись и должны расстаться! Ну, как вы жили?
Ботредж начал громко дышать и ушел к окну; его рука нервно погрузилась в карман. Он вернулся, протягивая Давенанту револьвер.
— Не промахнетесь даже с закрытыми глазами, — сказал Ботредж, — вы — человек твердый.
Давенант признательно взглянул на него, понимая смысл движений Ботреджа и радуясь всякому знаку внимания, как если бы не ужасную смерть от собственной руки дарили ему, а веселое торжество. Он взял револьвер и уронил его рядом с собой.
— Устроюсь, — сказал Давенант. — Я понимаю. Что же это? Стомадор! Не плачьте, большой такой, грузный!
— Что передать? — вскричал лавочник, махнув рукой на эти слова. — Есть ли у тебя мать, сестра или же та, которой ты обещался?
— Ее нет. Нет тех, о ком вы спрашиваете.
— Тиррей, — заговорил Галеран, — эта ночь дала тебе великую власть над нами. Спасти тебя мы не можем. Исполним любое твое желание. Что сделать? Говори. Даже смерть не остановит меня.
— И меня, — заявил Стомадор. — Я могу остаться с тобой. Откроем пальбу. Никто не войдет сюда!
В этот момент полупомешанный от страха Лекан ворвался в камеру и, прошипев: «Уходите! Перестреляю!», — был обезоружен Факрегедом, подскочившим к Лекану сзади.
Факрегед вырвал у надзирателя револьвер и ударил его по голове.
— Уже пропал! — сказал он ему. — Опомнись! Смирись! На, выпей воды. Застегни кобуру, револьвер останется у меня. Эх, слякоть!
— Лекан, кажется, прав, — отозвался Тиррей.
Оглушительные действия, брань и стакан воды образумили надзирателя. Чувствуя поддержку и крепкую связь всей группы, он вышел бормоча:
— Мне показалось… на дворе… Скоро ли, наконец?
— Положись на меня, — сказал Факрегед, — не то еще бывало со мной.
— Решайте, — обратился Ботредж к Давенанту: — Все будет сделано на разрыв сердца!
— Не думайте, — вздохнул Давенант, — не думайте все вы так хорошо для одного, которому суждено пропасть.
Взгляд его был тих и красноречив, как это бывает в состоянии логического бреда.
— Должна прийти, — сказал он с глубоким убеждением, — одна женщина, узнавшая, что меня утром не будет в живых. Ей сказали. Неужели не лучшее из сердец способно решиться посетить мрачные стены, волнуемые страданием? Это сердце открылось, став на высоту великой милости, зная, что я никогда не испытал любящей руки, опущенной на горячую голову. Как мало! Как много! Неизвестно, как ее зовут, и я не вижу ее лица, но когда вы уйдете, я увижу его. В этом — все. Проклят тот, кто не испытал такого привета.
— Мы увидим ее, милый Тиррей, — сказал Галеран, внимательно слушая эту речь, навеянную бредом и одиночеством. — Кто ей сказал?
— Как будто кто-то из вас, — встрепенулся Давенант, осматриваясь с усилием, — недавно выходил отсюда.
— Вышли и вернулись, — неожиданно произнес Стомадор, отвечая взглядом пристальному взгляду Галерана.
Ботредж тоже понял. Образы предсмертного возбуждения открылись им в той же простоте, с какой говорил Давенант. Ночь смертного приговора уравняла всех. На многое довольно было намека.
— Стомадор, — шепнул Галеран, отходя с лавочником к окну, — ведь вы готовы на все…
— Он готов, я с ним, — сказал Ботредж, — но… вы?
— Нет, я не гожусь, — грустно ответил Галеран. — Я — порченый. Вы сделаете лучше меня, если сделаете.
Слушавший у двери Факрегед мрачно кивнул головой, когда Галеран глазами спросил его.
— Да, — сказал Факрегед, — все мы решились на все, по крайней мере, о нас будут говорить с уважением. Пусть идут, только недолго, через час станет опасно.
— О чем вы говорите? — спросил Давенант. — Как длинна эта ночь! Но я не жалуюсь, я никогда не жаловался. Галеран, сядьте на койку, вы уйдете последний.
Между тем Ботредж и Стомадор, крадучись, проникли в отверстие за стеной лазарета и поползли к Тергенсу; он, догадываясь уже о скверном исходе, молча смотрел на приятелей, которые, ухватив друг друга за плечи, спорили, стоя на коленях. Тергенсу Стомадор сделал знак не мешать.
— Вы слушайте, — говорил Ботредж, тряся плечи лавочника, — я проворнее вас и могу сказать все быстрее. Я знаю, что делать.
— При чем проворство? Пустите, отцепитесь, ты все погубишь! — возражал Стомадор, сам не выпуская плеча Ботреджа. — За тобой прибежит толпа…
— Не упрямьтесь, времени у нас мало, — перебил Ботредж, — ведь это не то, что привести священника. Душа его мучится. Понимаешь ли ты?
— Я все понимаю лучше вас. Сойди с дороги, говорят тебе. Ты не можешь выразить, как нужно, от тебя разбегутся все, У меня есть опыт на эти вещи! Я изучаю психологические подходы и имею верность глаза! Как можешь ты меня заменить? Это нахальство!
— Бросьте. Я сбегаю за угол к одной вдове, она добрая душа и не труслива. Она сразу поймет. Ее сын тоже сидит в тюрьме, только не здесь.
— Да понимаешь ли ты, чего хочет он перед смертью? — зашипел Стомадор. — Даже мне этого не сказать, хотя в такую сумасшедшую ночь мои мысли проснулись на всю жизнь! Он хочет вздохнуть — слышишь? — вздохнуть всем сердцем, вздохнуть навсегда! Молчи! Молчи! Это я приведу последнего, неизвестного друга, такого же, как его светлый бред! — в исступлении шептал Стомадор, утирая слезы и чувствуя силы разбудить целый город. — О ночь, — сказал он, стремясь освободиться от переполнивших его чувств, — создай существо из лучей и улыбок, из милосердия и заботы, потому что такова душа несчастного, готового умереть от руки нечестивых! Что мы будем болтать! Стой у тюремного выхода и стреляй, если понадобится!
Ботредж хотел возражать, но Тергенс взял его за ворот блузы и оттащил от лавочника, кинувшегося, ударяясь головой о свод, к выходу на двор.
— Сидите, — сказал Тергенс, — лавочник говорит дело.
Перескочив из двора на пустырь сзади сарая, где сильно волнующийся Груббе сидел, не выпуская из рук рулевого колеса, лавочник только махнул ему рукой, давая тем знак стоять и ждать, сам же обогнул квартал со стороны пустыря, выбежав на Тюремный переулок ниже тюрьмы.