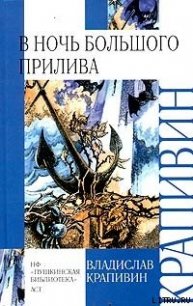Лужайки, где пляшут скворечники (сборник) - Крапивин Владислав Петрович (электронные книги без регистрации TXT) 📗
«Ага, значит, не физрук накапал, а мама заступилась. Это понятно. Небось нагородил дома жуткую историю: иду, никого не трогаю, а тут новичок ка-ак налетит!.. Чего не сочинишь, если могут взгреть…»
— Я жду, ИвОлгин… Иволгин!
А Дора Петровна молчала. И, по-моему, жалела меня. Видимо, она узнала про все только сейчас.
Настя вдруг сказала с места:
— Клавдия Борисовна, Вячик же сам виноват!
И, конечно, услышала в ответ, что Пшеницыну никто не спрашивает.
— А спрашиваю я… Иволгина. Кто дал ему право разводить здесь дедовщину? У нас не казарма, а школа!
«А в казарме, значит, можно?» — подумал я. И ответил, что вовсе не избивал Вальдштейна.
— Только дал один раз, а он носом о дерево… Вальдштейн, скажи! — Я оглянулся на него.
Вячик сидел так, что видно было только темя с белобрысыми прядками. И уши по сторонам. И показалось, что с лица на парту шмякнулась капля.
— Я пока спрашиваю не Вальдштейна, а тебя. Допустим, «один раз». А за что?
— Пусть он сам объясняет… — Я оглянулся опять.
Ничего Вячик не объяснит, потому что придется тогда признаваться в своей «шутке». И про это узнают дома. И, наверно, достанется ему также, как весной Лыкунчику.
И я ничего не объясню. Да, я не храбрец, но и не полная же сволочь. Одно дело — рассказать шепотом Насте, другое — нажаловаться учителям. Конечно, наплевать мне на Вальдштейна, который к тому же сам нарвался на неприятности, но все-таки… А кроме того, я же и останусь в дураках: поверил такому безобидному болтуну! Как тут на меня будут смотреть!
А пока вроде бы смотрели с сочувствием. Даже те, чьих имен я еще не знал. И Дора Петровна тоже. Она предложила:
— Клавдия Борисовна, давайте считать, что это была глупая мальчишечья стычка. Пусть извинятся друг перед другом…
— Нет, уважаемая Дора Петровна, — мягко сказала завуч. — Извините, что я с вами не согласилась, но мне кажется, дело серьезное. Вы же видите, как бесчеловечные нравы проникают в детскую среду… Вы смотрели вчера «Криминальные новости»? Про банду малолетних. На их счету масса грабежей и два убийства! Главарю всего пятнадцать лет, а младшему — вы не поверите — восемь. Ясно, куда мы катимся?
«Ясно. В наручники меня», — подумал я. Нет, не подумал, а, оказывается, выдал вслух.
— В наручники, к сожалению, не получится. А вот за родителями ты отправишься немедленно. Пусть явятся или сегодня, или завтра с утра. До этого — в школу ни ногой!
Ну, это все ясно. И просто.
— Родителей нет дома с утра до вечера. Можно, чтобы бабушка пришла? Это она занимается моим воспитанием.
— Оно и видно.
— Что видно? — напрягся я. Давать бабушку в обиду я не собирался.
— То, что родители… не очень занимаются твоим воспитанием. Впрочем, это ваше семейное дело. Но без старших я тебя на уроки не пущу.
Она думала, я боюсь домашней разборки! Но мы с бабушкой всегда понимали друг друга.
Я выволок из-под парты рюкзак и глазами попрощался с Настей. Клавдия Борисовна сказала мне вслед:
— А еще собирался в английский класс…
Я задержался у порога.
— Вовсе не собирался. Мне здесь хорошо.
Длинноволосый очкастый Олег Птахин (он сидел позади
Вальдштейна) вежливо спросил:
— Скажите, пожалуйста, а чем же наш класс хуже английского?
— Я… не говорю, что хуже. Дора Петровна, я не это имела в виду. Дело в том, что этот Иволгин…
Я сказал «до свиданья» и прикрыл за собой дверь.
ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ПЕПЕЛИЩУ
Идти домой не имело смысла. Родители придут после семи. Бабушка говорила, что после обеда собирается в собес насчет прибавки к пенсии. Значит, тоже надолго.
Я решил наконец поехать на то место, где когда-то стоял наш дом. Я и раньше хотел там побывать и однажды сказал это при всех. Отец недовольно отозвался:
— А зачем? Что это, «любовь к родному пепелищу»?
Я понял, что он цитирует Пушкина. И слегка огрызнулся:
— А если и так? Что плохого?
— Ничего. Только зря. Прошлого не вернуть.
А бабушка сказала:
— Успеешь еще. А сейчас давай-ка съездим на рынок.
Я не спорил, но про себя понимал, что все равно там надо побывать. Родина же, хотя и сгоревшая. Прошлого, конечно, не вернуть, но и забыть его нельзя. Даже если захочешь. А я к тому же не хотел. Вся жизнь прошла в том доме, в том квартале.
Сейчас у меня было самое подходящее настроение для такой поездки. Грустное. И я пошел на трамвайную остановку «Стекольная».
Добирался до центра я около часа. Путь был очень длинный. К тому же денег не было, ехал зайцем, и на полдороге меня выставил из вагона дюжий контролер в кожаной куртке. От куртки воняло, как от разогретых сапог. Он дал мне легкого пинка и пообещал в другой раз увести в отделение. Я отбежал. Издалека я сказал этому типу с бритым затылком, что он недобитый боевик и что работать надо, а не обдирать в трамваях старух и пацанов. Потом пошел на автобусную остановку и дальше ехал без приключений.
Вышел из автобуса я в квартале от дома. И вдруг понял, что никак не верю, будто дома уже нет. Ну, как это нет? Я ведь даже запахи его помню! В сенях пахло сухим деревом и влажной бочкой, в которой держали воду (колонка была во дворе). В прихожей — теплыми вязаными половиками и дровами для печки. В комнате бабушки — оконными цветами и землей из кадки с фикусом, а иногда — корвалолом…
Я до мельчайшего движения помнил, как вставляется ключ в скважину наружного замка. Надо вставить чуть-чуть не до конца, потом слегка прижать дверь и поворачивать ключ плавно, чтобы не заело. Этот плоский ключик и сейчас со мной, я брал его в лагерь, и он сохранился в кармане пострадавших джинсов.
Вот сейчас я обойду девятиэтажку с застекленным магазином «Хозтовары» на первом этаже, и…
И впервые в жизни я увидел настоящее пепелище.
Обгорелые бревна и стропила уже все растащили. Чернел бугристый прямоугольник с остатками обугленных половиц. Посреди этой пустой черноты стояла наша обитая жестью круглая печь. Раньше жесть была серебристая, а сейчас закопченная. И кто-то снял уже чугунную, с литым узором и рычагом дверцу.
Опоясывали площадку остатки низкого кирпичного фундамента.
У меня защекотало в горле. К тому же запах торфяного дыма ощущался и здесь. А может, это был запах пожарища?
У дальнего края фундамента ходили двое мужчин в полувоенной одежде. Один — грузный и лысый, другой — обыкновенный, в соломенной шляпе, которая не вязалась с камуфляжем.
«Стервятники», — скрипнул я зубами. Потом, не глядя на этих мужиков, перешагнул кирпичную бровку. Стал ходить по обугленным щепкам и мусору. Смотрел под ноги. Может, что-нибудь найду? Хотя едва ли. Все здесь уже вычистили.
Дядьки сперва не обращали на меня внимания. Затем тот, что в шляпе, сказал:
— Мальчик, зачем здесь ходишь? Иди играй. Здесь нехорошо.
Он говорил с кавказским акцентом, хотя лицо было вовсе не восточное, курносое и круглое. Может, мне акцент его просто показался. Нынче принято валить на кавказцев все беды, хотя большинство из них, конечно, ни при чем.
Сперва я не отозвался.
— Мальчик, я тебе говорю. Гуляй в другом месте, здесь не надо.
— Сами гуляйте в другом… Это мой дом… был, — сипло сказал я. — А не ваш. Сожгли, да еще распоряжаются.
— Ай, мальчик, зачем так говоришь! Сгорел дом, большое несчастье, да. Но разве это мы? Наше дело не жечь, а строить…
— Ну и стройте, я вам не мешаю.
— Ты не нам плохо делаешь, а себе. Смотри, все ноги испачкал.
Это правда. И кроссовки, и белые носки, и ноги выше носков были в саже и пепле.
— Вам-то что…
— Ну, как хочешь… — Дядька в шляпе отошел, а другой, грузный, стал что-то говорить ему, недовольно так.
Я побродил еще, уже просто из упрямства, и шагнул через фундамент обратно.
— Мальчик, подожди, пожалуйста!
Который в шляпе, опять шел ко мне. Протягивал раскрытую ладонь:
— Вот, нашли недавно. Это не твой?