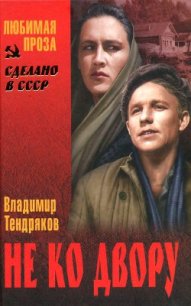Ночь после выпуска (сборник) - Тендряков Владимир Федорович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
Ясно-желтая грудка, пепельная спинка, в перышках крыла голубой торжествующий отлив, глаз мертвенно задернут, но сквозь мягкий пух пальцы уловили суматошное биение крохотного сердца. Над ухом раздалось тяжелое дыхание. Колька обернулся – растерзанный отец стоял над ним, на его помятом лице непривычная робость и на губах виноватая мученическая улыбка.
– Князек заскочил, гляди-ко, – сказал он.
– Живой.
– Небось оклемается… Князек в городе, надо ж!..
– Я ему гнездо устрою.
Отец несмело улыбался, под набрякшими веками, под жесткими светлыми ресницами влажные болеющие глаза.
– Он чего ест?.. Ой, ожил!
У князька открылся бисерный блестящий глаз, Колькина ладошка сжалась.
– Не тискай, задавишь еще… Слышь, Колька, отпусти его. Князек – птица лесная, вольная, взаперти сдохнет. – И мученическая улыбка, и голос непривычно просящий. – Я тебе канарейку с клеткой куплю, петь будет.
Кольке почему-то вдруг стало жаль, хоть плач, только неизвестно кого – птичку, попавшую в беду, или похмельного, встрепанного, мучающегося отца. Он даже не решился накормить гостью. Отец помог ему вскарабкаться на подоконник, он дотянулся до открытой форточки и разжал руку. Князек мелькнул ясно-желтой грудкой и мгновенно растаял в синеве, обнявшей лежащий внизу город.
В тот вечер отец пришел чистый, трезвый, тая в глазах весеннюю голубизну, а в губах ухмылочку. Он поставил на стол легкий объемистый пакет, завернутый в серую шершавую бумагу. Осторожно, стараясь, чтоб не шуршала, отец снял бумагу, и под ней оказалась круглая проволочная клетка с деревянным низом, выдвигающимся ящиком. Внутри на палочке сидела ржавенькая птичка, чуть побольше князька, быть может, не столь красивая, однако с широким бордовым галстуком.
Кенар ел конопляное семя, запрокидывая смешно голову, пил воду из блюдечка. Он очень скоро прижился и стал петь – дробно, с россыпью, с прищелкиванием, с нежным присвистом. Отец радовался не меньше Кольки, считал коленца… А у матери с лица не сходило испуганное удивление.
Неделю, а может и больше, отец приходил по вечерам рано, и чай пить садились теперь не на кухне, а в большой комнате за круглым столом, накрывали его глаженой скатертью. Кенар пел, и каждый вечер походил на праздник…
Сначала отец пришел лишь чуть подвыпивший, веселый, добрый, разговорчивый. И мать сразу увяла, сжавшись, молчала весь вечер. Но чай был, и кенар пел…
На другой день отец толкнул мать на шкаф, клетка с кенаром, накрытая от света платком, свалилась со шкафа на пол. Нет, кенар не разбился, остался жив, только после этого совсем перестал петь, сидел нахохлившись, ничего не ел. И лишь по вечерам, когда пьяный отец начинал громко ругаться, швырять стулья, на кенара стало находить сумасшествие, он метался в клетке, бился грудью о прутья…

Он скоро сдох, и Колька похоронил его в углу двора, за трансформаторной будкой, положил сверху два кирпича – вместо памятника и еще чтоб не выкопали и не сожрали кошки. Никогда уже больше не пили чай за круглым столом, покрытым белой скатертью…
Отец любил собак и птиц. На рыбалке однажды чайка схватила наживленного на перемет пескаря, сама попалась на крючок. У этой чайки были жесткие крылья, столь белые, что Колькины загорелые руки казались черными, как у негра. И голова чайки – маленькая, злая, с ненавидящим острым глазом. Отец и тогда приказал выпустить чайку.
Отец… О нем можно думать. Его даже можно любить.
Не надо только додумывать до конца. Не надо!
Скупо отмеренный день поздней осени угас. Он был тусклый и мокрый, похожий на вчерашний и позавчерашний. Как всегда, многочисленные проходные комбинатов, заводов, фабрик – гигантских, всесоюзно прославленных и неприметно-мелких, местного значения – выпустили рабочих, закрылись до утра, до нового рабочего дня. Но закрылись далеко не все, многие пропустили через себя ночные смены. Город лишь замирал, но не переставал жить уже не наружной, не суетливо-шумной, а потаенной жизнью. Какие-то станки не остановились, раздутые печи не погасли, дежурные краны продолжали ворочаться, крутились роторы электростанций, гнали по проводам электричество, совершалось ежесуточное чудодейство – грязная руда превращалась в чистый металл, мертвый металл в живые машины, сырье становилось продукцией, а время овеществлялось даже тогда, когда большинство жителей засыпало, забывая о неумолимости времени.
Кончился день, для всего города очередной, в общем, самый обычный. В этом тесном людском скоплении, где течение бытия мощно завихряется, всегда выплескивается наружу что-то гнилостное, оскверняющее существование. Где кипение, там и пена.
Кончился день, сам город ничем особым не отличил его от других дней. И только у какого-нибудь десятка людей сегодня круто перевернулась судьба.
Часть вторая
С утра Сулимов решил свозить Колю Корякина на экспертизу. Без медицинской экспертизы в таком деле обойтись нельзя. Сулимов мог бы перепоручить эту процедуру и другим, но вдруг да потребуется что-то уточнить, пояснить, дополнить – уж лучше сам.
Больница, куда он вместе с Колей и сопровождающим милиционером подкатил на спецмашине, когда-то стояла за городом. Теперь город со всех сторон обошел ее – несколько потемневших кирпичных корпусов, окруженных худосочным парком. Еще в конце прошлого века эту больницу основал известный в России психиатр, теперь она носила его имя, но в просторечии издавна звалась непочтительно кошатником или дурдомом.
Уже не столь известный по стране психиатр, однако все же нынешняя местная знаменитость, доктор медицинских наук, заведующий отделением, к чьим услугам следственные органы осмеливались прибегать только в особо важных случаях, оторвался от своих больных, от организационных забот, от конфликтов вверенного ему медперсонала, уединился с Сулимовым в кабинете, полистал бумаги, задал несколько незначительных вопросов, произнес:
– Что ж, давайте сюда вашего соловья-разбойничка.
«Соловей-разбойничек» выглядел жалко – синюшное, до хрупкости исхудавшее лицо, затравленные светлые глаза со вздрагивающими зрачками, тонкая, напряженно тянущаяся из просторного воротника шея…
Местная знаменитость, лысый, с лепным черепом, массивный мужчина, державшийся с Сулимовым грубовато-добродушно, при появлении Корякина изменился мгновенно и разительно – не только физиономия, но и все его плотно сбитое тело стало выражать приветливое участие. Он посадил Колю так, что острые Колины коленки упирались в его тугие, полные колени, начал расспрашивать заботливо и не напористо – хочешь отвечай, хочешь не отвечай, твоя воля: занимался ли спортом, страдал ли головными болями, хорошо ли спал по ночам, какие книги больше нравилось читать… Прерывал вопросы, просил перекинуть ногу на ногу, обстукивал молоточком, заставлял следить за толстым пальцем, нацеленным в потолок, снова и снова спрашивал бархатно стелющимся голосом, втягивал в необязательную беседу. Коля отвечал коротко и ясно, не спуская беспокойного взгляда с врача. Беспокойного, но вовсе не недоверчивого.
– Ну иди, дружочек, – наконец ласково отпустил доктор к сопровождающему милиционеру, ждавшему за дверью. И когда Коля вышел, местная знаменитость ворчливо заметил: – Как пациент он не представляет для меня ни малейшего интереса.
– Нормален? – спросил Сулимов.
– Нормальных людей на свете нет!
Психиатр плотно уселся за свой стол и с профессиональной быстротой врача, которого ждут многочисленные больные, приходится дорожить каждой минутой, написал следующее заключение: «Николай Рафаилович Корякин душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает признаки эмоциональной неустойчивости. В период, предшествующий инкриминируемому деянию, он находился в состоянии естественной подавленности, связанной с длительной психогенно-травматизирующей ситуацией, но не носившей болезненно-психотического характера. В момент, относящийся к совершению правонарушения, признаков какого-либо временного болезненного расстройства душевной деятельности не обнаруживал. Как видно из материалов дела и настоящего психиатрического обследования, у него в тот момент отмечалось состояние эмоциональной напряженности, связанной все с той же ситуацией, не сопровождающейся психотической симптоматикой (бредом, галлюцинациям, искаженным восприятием окружающего). Поэтому в отношении инкриминируемого деяния Н. Р. Корякина следует считать вменяемым».