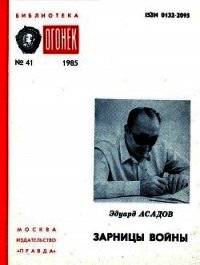Маленькие становятся большими (Друзья мои коммунары) - Шаров Александр (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .txt) 📗
Трифоново, волостное село, лежит среди самой чащобы, как Смолокуровка. Шли в кромешной тьме, свернули и вдруг увидели избу с флагом, полоскавшимся над освещенным окном, — волостной комитет РКП (б).
Лобан первым подошел к избе. Остальные ребята выходили из леса один за другим. Тимофей Васильевич стоял у окна и каждого, кто подходил, поворачивал к себе, потом подталкивал к дверям:
— Ну, иди греться!
Последним из лесу показался Аршанница; он замыкал колонну.
— Значит, все! — сказал Тимофей Васильевич, вслед за Аршанницей входя в помещение. — Все пятнадцать человек…
Оказывается, никто не струсил, не повернул к дому, не убежал.
В большой комнате на корточках перед печкой сидел сторож. Пламя вырывалось из открытой дверцы, жарко гудело, охватывая смолистые поленья. Ребята стояли вокруг и грелись.
Тимофей Васильевич шагнул к столу, покрытому красным кумачом.
— Ребята, — сказал он, поднимая голову, — путь до Москвы долгий. Знаете, что нам сейчас нужно больше всего?
Он подождал немного и сам ответил:
— Знамя! Какой же это отряд, если нет у него знамени? Кто из вас умеет рисовать?
— Я, — откликнулся Лобан.
— Пиши! Нет кисти — ничего, пиши пером, вот тут, на этом кумаче. — Тимофей Васильевич оглядел ребят и громко закончил: — Пиши так: «Школа-коммуна».
Сторож поднялся и сказал:
— Как же это? Имущество ведь казенное, советское…
— А разве знамя будет не советское? Самое советское! — перебил Тимофей Васильевич. — Большевистское знамя. Верно, ребята?
Ребята ответили вразброд, но дружно: «Верно!» — и сторож больше не спорил.
А Лобан, макая ручку с пером в чернильницу и наклонившись над столом, осторожно выводил буква за буквой те два слова, которые диктовал Тимофей Васильевич: «Школа-коммуна».
…В темноте знамя кажется черным, но на самом деле оно красное, кумачовое. Мы в коммуне. Все-таки и теперь мне кажется, что сон, который разбудил меня, вернется, как только я закрою глаза. Он только и ждет этого. Я поднимаюсь и на цыпочках крадусь к Ласькиной койке. Ласька закутался с головой, но из-под одеяла слышно его дыхание.
Теперь на душе спокойно, и больше я ничего не боюсь. Возвращаюсь к своей койке и засыпаю.
ГИПНОТЕЗЕР
Тимофей Васильевич зовет Роберта Мартыновича, завхоза коммуны, не по имени-отчеству, а старой его партийной кличкой — Август; ведь они семь лет были вместе на каторге.
И мы чаще всего обращаемся к Роберту Мартыновичу так же: «Товарищ Август!»
У Августа круглая, совершенно голая, и зимой и летом темная от загара голова, крупный нос, твердо сжатые губы; глаза под выгоревшими бровями кажутся строгими, даже сердитыми.
Но они только кажутся такими.
О себе Август говорит:
— Вся моя жизнь — это цифры и счета. Трудно придется мне, когда коммунизм победит окончательно и с деньгами покончат раз и навсегда. Одно утешение: Ротшильду с Пирпонтом Морганом будет еще хуже.
Канцелярия — владения Роберта Мартыновича — зимой погружается в ледяной холод. Если притронуться к печке-буржуйке, пальцы примерзают к красноватой от ржавчины жести; диван покрыт инеем, и каждый, кто заходит в канцелярию, старается скорее окончить дело и убежать. Только Август сидит как ни в чем не бывало и пишет, по мере надобности перочинным ножиком пробивая лед в чернильнице.
Печка-буржуйка протапливается раз в месяц, когда Роберт Мартынович проверяет счета и составляет баланс. В остальные дни Август не возьмет из сарая и одного полена коммунарских дров, хотя у него давний жестокий ревматизм и он очень любит тепло.
Дни, когда составляется баланс и протапливается канцелярия, называют у нас «большим костром». Конечно, Политнога еще накануне узнает о «большом костре», и мы с ним первыми занимаем места на продавленном диване рядом с раскаленной печуркой.
Под полом, в зимнем тайнике, ворочается еж. Обманутый теплом, он принюхивается сквозь сон: не пришла ли весна, не оттаивает ли земля, не лопаются ли почки на деревьях? Но ничего такого в воздухе не чувствуется, и еж снова засыпает.
Август пишет, шепотом повторяя цифры:
— Тысячи и десятки тысяч, а что будет дальше — миллионы и миллиарды? Деньги катятся вниз, как санки с американской горки. — Он поднимает на нас глаза: — Ко всем бедам — еще вы. Что вам понадобилось?
— Вы обещали рассказать что-нибудь, — напоминает Мотька.
— О чем? Что я знаю, кроме цифр?..
Но Август не выгоняет нас, а это главное.
Мы греемся у печки и ждем, когда начнет темнеть. Оледенелое окно становится багрово-красным. Солнце некоторое время еще висит над садом и скрывает наконец за оградой круглую, бронзовую, как у Августа, голову. Электричество, на наше счастье, не горит сегодня, и Роберт Мартынович откладывает работу.
— Мне поручили отвезти деньги в Нижний, — как всегда, без предисловий начинает он. — Сошел с поезда, на всякий случай проплутал часа два, чтобы сбить со следа шпиков, и отправился на явку. Свернул в переулок и сразу почувствовал, что дело плохо.
Август свел выгоревшие брови, вспоминая, как десять лет назад в трудный и тревожный день он заметил шпиков и угадал беду, нависшую над явкой.
— По городу прошли аресты, все связи были разорваны, и я решил вернуться в Питер, чтобы получить новые инструкции. Но и в столице жандармы разгромили организацию. Приходилось самому, на свой страх и риск, принимать решение. Подумав, я зашил деньги в подкладку пиджака и во второй раз поехал в Нижний. В каком бы глубочайшем подполье ни прятались нижегородские большевики, должны же они дышать, действовать, поддерживать связи с пролетариатом. Значит, найти их можно. И сделать это необходимо. Сами понимаете: деньги в подобных обстоятельствах — при провале — нужны до зарезу.
За окнами синеют сугробы, вокруг темных стволов вьется воронье, которого у нас в саду множество. Мы сидим и слушаем. Эту историю о том, как Август четыре месяца голодал, и не помышляя притронуться к партийным деньгам, как он, больной, в лохмотьях, где был зашит денежный пакет, скрывался от жандармов и искал, искал своих, мы уже слышали раньше, от Тимофея Васильевича. Август рассказывает не так увлекательно, совсем без подробностей, но нам все равно интересно.
— Иду и поглядываю. Кажется, «хвоста» нет… — продолжает Роберт Мартынович.
Но ему не удается довести рассказ до конца. Скрипнула и осторожно приоткрылась дверь. В щель просунулся сперва чрезвычайно длинный и тонкий нос, потом показались два глаза, выражающие испуг и нерешительность, буденовка со звездой и наконец худая фигура в обтрепанной шинели.
— По какому делу? — недовольно спрашивает Роберт Мартынович.
Человек в шинели, шагнув вперед, кладет на стол лист бумаги.
— Посвидчення! Удостоверение, — поясняет он односложно, по-украински мягко выговаривая слова, и выпрямляется, всей фигурой выражая ожидание и надежду.
— «Дано сие, — вслух читает Роберт Мартынович, — демобилизованному по ранению красноармейцу Пастоленко Федору Евтихиевичу в том, что он успешно окончил курсы гипноза и научного внушения при Госцирке Одесского губполитпросвета, где получил специальность факира и гипнотизера с правом чтения лекций и проведения сеансов, что подписью и печатью удостоверяется». Ты, значит, и есть Пастоленко? — испытующе спрашивает Роберт Мартынович.
— Точно так!
— Где воевал?
— В отдельном конном революционном отряде товарища Голованова, ранен под Шепетовкой, — с готовностью поясняет Пастоленко.
Август поглядывает то на нас, то на худое, с запавшими глазами лицо Пастоленко.
— Вечер гипноза? — вполголоса, сам с собой рассуждает он. — Что ж, один такой вечер провести — грех не велик. Да и деньги на культработу остались; что их беречь, если они катятся, как санки с американской горки?
Мотьки уже нет в канцелярии. Конечно, он убежал, чтобы первым сообщить коммунарам из ряда вон выходящую новость.