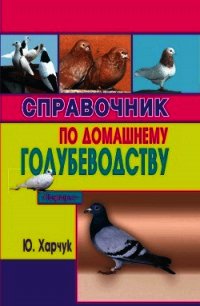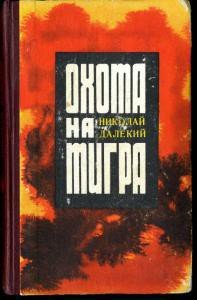Голубиная охота - Воронов Николай (серии книг читать онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что Давид Соломонович ещё не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по чистому недоразумению использовал слово «жулик». Директор благоволил ко мне. Он жил на той же линии — через барак от нас. Время от времени он захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской бытности. Потчевали его белым вином, селедкой, желтоватой бочковой капустой и черемуховым маслом, представляющим собою смесь сливочного масла с истолченной в ступке сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями, касавшимися меня. Мать просила директора смягчиться, не прогонять меня из школы, а там я, глядишь, войду в «твердый разум и налажусь». Бабушка, поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он без того твердо придерживался цели — сделать из этого сорванца человека — и поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со мной. Хотя он говорил для них, они то и дело требовали от меня, понуро сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко усваивал внушения Ивана Тарасовича.
И в этот раз директор тоже заглянул к нам, но с Лиргамером. У него было смеющееся выражение лица. Он таинственно мне подмигнул, указав глазами на Лиргамера.
Я так понял ею кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к диковинной потехе. Но потехи не было, то есть, с его точки зрения, она была, а с моей — была стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за непомерную нетактичность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал своё. Он страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо мной.
— Ты пей и закусывай черемуховым маслом, — говорил Лиргамеру директор, — и в тебе образуется стерильная чистота.
Приход Лиргамера и директора отозвался на участи моих голубей.
— Завтра же ликвидируй голубятню, — сказала мать, когда ушли директор и Лиргамер.
Я собрался схитрить — если поволынить и быстро наладить успеваемость и дисциплину, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что оптом и по дешёвке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка состоялась, и барышник унёс в мешке всю мою стаю.
Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом, отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями. Неподалеку в нем бодро стучал катерок, и, накрывая этот стук, то и дело широко и тонко распускались клубки звона — ударял паромный колокол.
Едва паром, сплющивая бортом автомобильные покрышки, подвалил к пристани, с него на берег прошёл верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-артельщики из России, с мая по ноябрь живущие в Магнитной, у каждого за плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидушек и всякой перекрашенной одежды.
Возчики с веревочными кнутами стали уговаривать киргиза, управлявшего верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что ещё не доехал до базара, а уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться. Кибитку задержали бабы в чёрных полушалках, цыганки что-то наборматывали им из тёмной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили плотники и уговаривали их бросить свое маркое ремесло и подрядиться вместе с ними строить в зерносовхозе элеватор.
Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был интерес, который окрылял душу, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем жить.
За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый берег Урала, то ударился вверх по холму.
В станице гоняли дичь. Стая взрывника, кружившая быстро и слитно, белела на солнце. С новой силой вспыхнула моя маета. И, проклиная себя за измену обещанию, я не знал, куда деться от обиды и тоски.
Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется — всё вымерло. Сусликов и тех почти не видать. А было многозвучно от жаворонков, и ящерицы струились меж кочковатыми кустиками старника, и совы спали на копешках, и горностаи шастали в ложбине. Обесцветились растения, кроме конского щавеля, кровохлёбки и нивянок. Да еще выделяются среди глинистого однообразия стеклянные волоконца семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не тянуло через увалы аромат горицвета, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея, пижмы, поповника…
Я ломился напрямик по этой тусклоте, и моя неприкаянность скрадывалась, как бы терялась в бурьянах.
Я быстро добрался до Мартышечьего озера. Полежал на мхах. Нарезал рогозовых «палок» и успел вернуться домой до ухода в школу. Боль во мне, похоже, перегорела, и я вроде бы смирился с запретом держать голубей. Я не подосадовал на бабушку, когда она, зачерпнув ложкой сливочного масла, полезла под кровать. Даже мысль о том, что теперь не меньше недели бабушка будет праздновать на голубиные деньги, не обострила меня.
Возвращаясь из школы, я то ли загадывал, то ли умолял кого-то: «Хотя бы они не прилетели», — но на всякий случай пошел вдоль сараев, балаганов, будок. Взглянул на барачную крышу. Там сидел голубь. Я подумал, что обмишулился. Уже темновато, и можно принять за голубя какой-нибудь рваный ботинок, закинутый на крышу. Чего только туда не забрасывают. Я решил больше не смотреть на крышу и хотел уйти домой, но не утерпел. Действительно, на гребне крыши сидел голубь. По белой гладкой голове и вытянутой шее я узнал младшего Цыганёнка. Уже через мгновение я бросился в барак за ключом. Едва открыл будку, Цыганёнок слетел на землю и торопливо побежал к порогу. Я так был обрадован, что понёс Цыганёнка домой. Мать с бабушкой подивились: пискунишка, которому году неделя, прилетел, да еще и раньше старых голубей. Мать налила в блюдце молока, а бабушка насыпала чечевицы на жестяной лист, прибитый перед поддувалом голландки. Я сказал, что в незнакомой комнате он не станет есть, а вот стекло наверняка вышибет. Чтобы Цыганёнок не убился или не порезался, прежде чем пустить его на железо, я открыл окно. Он сразу вспорхнул, вылетел и сел на пол, возле огуречной грядки. И это поразило их.
Я накормил Цыганенка возле будки, и когда, оповестив своих дружков о его возвращении, пришел домой, то мать с бабушкой всё ещё восхищались тем, что младший Цыганёнок — башка, а также толковали о поверье, будто у голубей человеческая кровь, и склонялись к тому, что в этом есть резон: умом, повадками, семейным укладом, привязанностью к дому они напоминают людей.
Со дня на день я ожидал прилёта Страшного и Цыганки, но они не появлялись. Пискуну было одиноко. Много им заниматься я не мог — подгонял успеваемость. Чтобы он не сидел в затворничестве, я выпилил в нижней части двери отверстие, и Цыганёнок покидал будку и залазил обратно, когда ему вздумается. Он летал с Петькиной стаей и со стаей Жоржа-Итальянца. Но чаше всего он летал со стаей Мирхайдара и всегда рядом с хохлатым Цыганёнком. Иногда он исчезал из неба нашего участка. Где его носит, я не знал, да и не хотел знать. Мне было ясно, что Цыганёнок любит летать, что он вольный голубь и что, хоть убей, не сядет у чужой голубятни, если даже к Мирхайдару, куда садится его брат, ни разу не спустился. Меня бесило, когда кто-нибудь из мальчишек говорил в его отсутствие:
— Опять Цыганёнок шалается над городом.
Для голубятников ожидание первого снега — как ожидание первого несчастья. Снег перекрашивает мир. Были горы верблюжьего цвета, выше землянок на склонах темнели убранные огороды, а верх землянок был пестр: черный — полито смолой, бурый — крыт железом, сизый — досками, белый — берестой. Пропали серые крыши конного двора, красная крыша клуба железнодорожников, зеленая крыша детского сада, разномастные крыши бараков, оранжевый зонт над трубой котельни, изумрудные крыши завода, в стекле которых мерцала на солнце медная проволочная арматура. Исчезли черные домны, глинисто-рыжий ручей, текущий с горы Атач через город, и глинисто-рыжий лед пруда в месте впадения ручья. Куда-то делись другие цветовые ориентиры. Голуби дуреют от этой перекраски. Они не кружат над свежей, слепящей, беспредельной белизной — плутают, носятся, мечутся, будто промчался в небе ураган и расшвырял их, и они никак, не могут собраться в стаи. Но понемногу налаживается привычный порядок. Стройность ему возвращают голуби, уже зимовавшие не однажды. Сбиваясь в маленькие кучки, они начинают размеренное вращение над угаданной, тысячу раз облетанной площадью, ожидая, когда соберется вся их разбредшаяся стая. К вечеру редко в какую голубятню соберется вся дичь. В некоторых голубятнях не досчитываются и старичков.