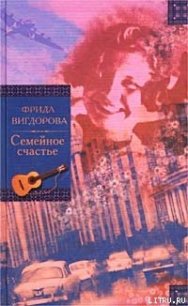Дорога в жизнь - Вигдорова Фрида Абрамовна (чтение книг txt) 📗
– «Где искать мне, несчастному, убежища? – говорил младший брат Тиберия. – Куда мне обратиться? На Капитолий? Но он еще не просох от крови брата. Домой? Чтобы видеть в горе и отчаянии мою мать?»
…Пятая группа в этот день все делала с опозданием – и чай пила и уроки готовила, а отдохнуть, наверно, и вовсе не успела. Но я не видел на лицах ребят усталости. А Король, уходя спать, сказал мне как нечто глубоко продуманное:
– Братья Гракхи – вот это были люди!
58. ЕЩЕ ОДИН УРОК ИСТОРИИ
Через день я пошел на урок истории в пятую группу. Я не думал найти там какие-то перемены. Просто не было дня, чтобы мы с Софьей Михайловной не бывали на уроках: она контролировала и учила, я – учился. Учился не математике, не русскому языку и не физике, а искусству учить и воспитывать. А к Елене Григорьевне я ходил в надежде что-то придумать. Надо же нам что-то делать, как-то вразумить ее, должна же она понять, что ее уроки душат, убивают интересный и важный предмет.
Как всегда, я сел на заднюю парту и приготовился слушать.
За широким, не перечеркнутым рамой окном сверкало до блеска вымытое небо – такое синее, что казалось, будто и весна не за горами. Ребята еще шуршали тетрадями и учебниками. Володин нырнул зачем-то в парту и, кажется, так и решил там остаться. Но вот его голова снова появилась над партой – и в эту самую минуту раздалось сухое, повелительное:
– Володин, к доске!
Шумно вздохнув, Володин встал, одернул рубашку и прошел между рядами. Стал у доски, как всегда не зная, куда девать руки, и терпеливо ждал вопроса.
– Расскажи о земельном законе Тиберия Гракха, – так же отрывисто и сухо потребовала Елена Григорьевна и, не дожидаясь, пока Володин заговорит, отвернулась к окну.
Меня всегда возмущала эта ее манера скучливо смотреть в окошко, пока ребята отвечали. Вот и сейчас: она смотрит на небо, на березы, да и их, кажется, не видит – такое уж у нее выражение лица.
– Тиберий хотел, чтоб у простого народа была земля. Но самое плохое в человеке – это жадность…
Елена Григорьевна, словно просыпаясь, шевельнула бровями. А Володин продолжал как ни в чем не бывало:
– …и богачи нипочем ее хотели отдавать землю. А Тиберий говорит: «Ах, вы так – вас просят по-доброму, а вы не хотите! Тогда отдавайте землю сейчас же». А Октавию говорит: «Ты от этого не обеднеешь, я тебе отдам свою землю». А Октавий уперся на своем – и ни в какую. Тиберию он был друг, и Тиберий его очень жалел. Но все-таки сказал: «Если ты о народе не думаешь, то какой же ты трибун? Сейчас будем голосовать, чтоб снять тебя из трибунов». Голосуют – и все против Октавия. Тут Тиберий говорит: «В последний раз тебя прошу, одумайся». Но Октавий поглядел на богачей – и опять за свое. «Тогда голосуем дальше», – это Тиберий говорит. Почти все были против Октавия, и Тиберий силком свел его с трибуны…
Елена Григорьевна давно уже не смотрит в окно. Удивленно, кажется даже растерянно смотрит она на Володина.
– Скажи, а почему Тиберий обращался к Октавию? – спрашивает она.
– Ну как же, – доверчиво отвечает Володин: – там у них было такое правило: если хоть один трибун говорит против, то уж кто согласен, в расчет не принимается.
– Так, так…
Елена Григорьевна долго молчит, и все очень хорошо понимают ее молчание и сами помалкивают, сохраняя чинное выражение лица. Но Володин – не дипломат. Он видит, что учительница удивлена, и в простоте душевной хочет объяснить ей, что к чему:
– Это нам Владимир Михайлович рассказывал… третьего дня. Король говорит: «Братья Гракхи – вот скука-то», – а Владимир Михайлович…
– Садись, – обрывает его на полуслове Елена Григорьевна.
И удивленный Володин идет на место.
Андрей щурит глаза и улыбается. На откровенной физиономии Короля крупно написано некое торжествующее «Ага!» Сергей соболезнующе смотрит на Володина: «Эх, брат, прост же ты…»
– Разумов, к доске! Продолжай.
У Разумова хорошая память и хорошая, складная речь:
– Тиберий Гракх добился своего, но самое трудное было впереди: надо было провести закон в жизнь. А уже очень трудно было понять, где собственные земли, а где арендованные: на арендованных были разные постройки, осушались болота, разводились виноградники. И, конечно, богачи сопротивлялись. А Тиберий не отступал. Он сказал, что надо выдать крестьянам денег из государственной казны на обзаведение. И еще он предлагал сократить срок военной службы. А тут беда: надо выбирать новых трибунов. И все очень плохо сошлось, потому что выборы были летом, когда крестьяне в поле. Тиберий понимал, что они не смогут прийти за него голосовать…
Володин отвечал толково, но не очень складно, не сразу находя нужное слово. Разумов говорит легко, и с первых слов ясно, что источник его знаний тот же, что и у Володина.
Елена Григорьевна вызывает еще Жукова. Саня рассказывает о Гае Гракхе, и мы снова слышим: «Где искать мне, несчастному, убежища? Капитолий еще не высох от крови брата, а дома плачет мать…»
…В учительской Елена Григорьевна подходит к Владимиру Михайловичу, который уже сидит у стола над стопкой контрольных работ.
– Владимир Михайлович, – говорит она, и ее красивое, правильное лицо внезапно заливает краска – даже лоб краснеет, даже уши, – сегодня я спрашивала пятую группу о Гракхах…
Она умолкает. Владимир Михайлович поднимает голову и испытующе смотрит на нее.
– Они отвечали не по учебнику… – Елена Григорьевна снова молчит.
«Смотри-ка! – думаю я. – Может быть, она и способна услышать то, что ей говорят?»
Исподтишка поглядываю на них и тешу себя несмелой надеждой. Может быть, дойдет до нее? Хоть бы она поняла, как многому можно научиться у Владимира Михайловича, стоит только захотеть. Вот если бы…
И вдруг, словно собравшись с силами, Елена Григорьевна заявляет своим обычным голосом:
– То, что вы рассказали ученикам, никакого отношения к истории не имеет. Это все беллетристика. Если хотите знать, это просто идеализм – такое отношение к истории. Как будто что-нибудь зависит от личных качеств отдельных людей – добрые они там были или злые. Это идеализм! И потом, что это такое: почему вы вмешиваетесь в мою работу? Я ведь не даю за вас уроков арифметики? Я не прихожу к вам и не указываю…
Как она смеет так говорить с Владимиром Михайловичем? С грохотом отодвинув стул, я встаю, но старик делает едва заметное движение рукой в мою сторону. Он давно уже стоит во весь свой немалый рост перед Еленой Григорьевной и не сводит с нее холодных, внимательных глаз.
– Милости прошу на мои уроки, Елена Григорьевна. Буду благодарен за каждое разумное слово. Привык выслушивать замечания товарищей.
Он говорит медленно, словно сдерживая себя. И вдруг, оборвав, продолжает совсем по-другому – горячо, не выбирая слов, не задумываясь:
– И считаю себя виноватым в том, что давно не сказал вам: нельзя так преподавать историю, как вы. Это клевета на людей! Вы клевещете на людей, которые даже заступиться за себя не могут! Я вот могу отвести от себя напраслину, и Семен Афанасьевич может, а Невский или Петр – они безмолвны и беззащитны перед вами. Нельзя преподносить ребятам мертвые, абстрактные определения вместо живой истории народа!
До чего хорошо, что Владимир Михайлович умеет сердиться вот так, по-настоящему, от души, без оглядки! Впрочем, это для меня не новость – я ведь не забыл встречу с педологами.
Они стоят друг против друга, и Владимир Михайлович, как видно, даже не думает извиняться в том, что вмешался не в свое дело (а я, признаться, ждал, что он все-таки извинится – возьмет верх привычка: он так изысканно, безупречно вежлив всегда и со всеми).
– Вы читали учебник? Вы видели методические разработки? – сухо, отрывисто спрашивает Елена Григорьевна.
Чтобы смотреть прямо ему в лицо, она вынуждена закинуть голову, и вид у нее, может быть поневоле, особенно вызывающий.
А Владимиру Михайловичу волей-неволей приходится смотреть на нее сверху вниз.