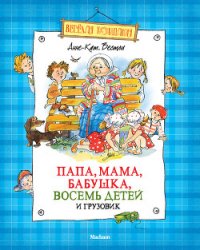В рассветный час - Бруштейн Александра Яковлевна (полные книги TXT) 📗
Корабль — с парусами! — нарисованный «беленькой», похож на мотылька. Кошка — ее изобразила Варя Забелина — вообще ни на что не похожа. Но Виктор Михайлович смотрит на эти рисунки, склонив набок свою белоснежно-седую голову, говорит поощрительно, даже негромко мурлычет, как большой белый кот:
— Ммм… Н-нич-чего… Ничего-о…
Я с ужасом думаю: ох, вот сейчас я осрамлюсь, ох, как это будет стыдно!..
— Н-ну-с… — приглашает меня жестом Виктор Михайлович. — Нарисуйте-ка селедку!
Иду к доске, беру мел и начинаю работать. Рыбка под моим мелком смотрит в профиль — одним глазом. Я делаю на ее спине закорючку — это плавник! — очень старательно вырисовываю раздвоенный хвостик. Смотрю, чего-то еще недостает. Ах, да, этак рыбка выглядит плавающей, как и всякая другая, как окунь или ерш, а ведь Виктор Михайлович заказал мне именно селедку. Недолго думая пририсовываю к ней селедочницу и вдобавок окружаю селедку целым рядом аккуратненьких колечек.
— Гм… — всматривается Виктор Михайлович. — Рыбка, да… А почему же это она едет в лодке?
— Это не лодка, — объясняю я. — Это селедочница… Селедка на селедочнице…
— Ишь ты! — удивляется Виктор Михайлович. — А что же это за колечки вокруг нее?
— Лук! — уточняю я. — И еще вот… сейчас…
Быстро пририсовываю ко рту селедки какую-то длинную, разветвленную запятую.
— Да-а… — понимающе кивает Виктор Михайлович. — Селедка папиросу курит.
— Нет… — почти шепчу я в полном отчаянии. — Это у нее во рту петрушка…
Девочки взрываются хохотом. Смеется и сам Виктор Михайлович. Но во всем этом нет ничего обидного, — я ведь и сама знаю, что рисование мне не дается.
Возвратившаяся в класс Дрыгалка, сидя за своим столиком, смотрит на мой рисунок, неодобрительно поджав губки.
— Какие-то нелепые остроты! — пожимает она сухонькими плечиками.
— Э, нет, не скажите! — заступается за меня Виктор Михайлович. — Рисунок, конечно, не так чтобы уж очень… Но фантазия какая! И — наблюдательность: лук, петрушка…
Дальше — урок арифметики. У учителя, Федора Никитича Круглова, голова в седеющих рыжих волосах, прямых и жестких, на макушке торчит упрямый хохолок, который Федор Никитич часто пытается пригладить рукой. Близко сдвинутые глаза сидят глубоко под узеньким лбом — совсем как у гориллы на рисунке в книге Брема «Жизнь животных». Но лицо у Федора Никитича — не злое.
Просмотрев весь список учениц, Федор Никитич останавливается на последней фамилии — моей! — и громко вызывает:
— Яновская Александра!.. Прошу к доске.
Задача, которую я должна решить, — самая пустяковая. Я ее решаю, а потом объясняю вслух ход решения.
— Гм… — говорит Круглов, рассматривая то, что я нацарапала мелом на доске, и выслушав мои объяснения. — Задача решена правильно. Но — почерк! Не цифры, а иероглифы… Это что? — тычет он указкой в одну из цифр.
— Четверка…
— Четверка? Это пожарный, а не четверка! Пожарный с топором или с крючком — вот это что! Садитесь.
Федор Никитич возвращается к своему столу, пододвигает к себе журнал, на секунду задумывается.
— За решение задачи я бы вам поставил пятерку… — говорит он, словно соображая вслух. — Но из-за пожарников этих не могу поставить больше чем четыре с минусом.
Четыре с минусом… Первая моя отметка — четыре с минусом!
Федор Никитич берет перо и собирается вписать отметку в журнал.
— Нет! — говорит он, глядя на меня своими «горилльими» глазами из-под нависшего над ними узкого лба. — Нет, и четверки с минусом поставить не могу. А тройку тоже не поставишь: мало. Четыре с двумя минусами — вот это будет справедливая отметка!
Четыре с двумя минусами… А дома-то, дома думают, что я здесь ловлю пятерки сачком, как бабочек!
Весь урок проходит для меня как-то смутно. Вслушиваться в то, что говорит Федор Никитич, что отвечают девочки, мне неинтересно: я это знаю. А моя собственная четверка с двумя минусами давит меня непереносимо. В книгах часто пишут: «Она сидела, глотая слезы…» Я не глотаю слез, да и как это можно делать, если слезы льются из глаз, а глотать их надо вовсе горлом? Но я сижу, пришибленная своей неудачей. Я не обижаюсь на Федора Никитича — конечно, он прав. Ведь и Павел Григорьевич, и Анна Борисовна сто раз говорили мне, что у меня невозможный почерк. Но все-таки мне ужасно грустно…
После урока ко мне подбегают Меля и Маня.
— Ну, что ты скисла? — с упреком говорит Меля. — Радуйся! Четверку получила!
— Да… С двумя минусами… — говорю я горько.
— Все равно четверка! Мало тебе?
— Мало.
— Да ведь четверка — это «хорошо»!
— А мой папа говорит: надо все делать отлично!
— Ну, знаешь, твой папа! Его послушать, так надо ранец на спине таскать и на одни пятерки учиться… Что за жизнь!
Маня хочет предотвратить ссору. Она мягко вставляет:
— Мой папа тоже так думает: «Что делаешь — как можно лучше делай!»
Меля не хочет ссориться.
— Ладно! — говорит она мне. — Сейчас у нас большая перемена, покушаешь — успокоишься. А после большой перемены — урок танцев, вот ты и совсем развеселишься.
Большая перемена. Из всех классов высыпают девочки, у всех в руках пакетики с завтраком; все едят, разгуливая по коридорам. Но Меле это не нравится. Она хочет завтракать с удобствами.
— Нет-нет! На ходу и собаки не едят!.. Пичюжьки, за мной! — командует Меля и ведет нас в боковой коридорчик, где в темном уголке около приготовительного класса стоит большая скамья. Мы усаживаемся.
Когда мы с Мелей уходили из класса в начале большой перемены, мне показалось, что моя «пара», Кандаурова, провожает нас тоскливым взглядом. Но мне некогда думать об этом — перемена короткая, надо успеть позавтракать. Меля раскрывает корзиночку, где у нее находятся изрядные запасы еды. Она бережно и аккуратно, как-то очень аппетитно раскладывает все на большом листе бумаги и, откинув руку назад, словно прицеливаясь, негромко бормочет:
— Ну-ну-с… Посмотрим, что тут есть… — И вдруг тихонько напевает: — «Смотрите здесь, смотрите там! Нравится ли это вам?..» Это, пичюжьки, такая песенка, я слыхала… Ну, мне нравится вот эта семга! Очень славненькая семужька, Фомушька, Еремушька… Потом поедим телятинки… А на десерт — пирожные! Ну, восподи баслави!
И она с аппетитом начинает поглощать бутерброды с семгой.
— Я, понимаете, деточки, уж-ж-жясная обжера! Люблю покушять!
Меля могла бы нам этого и не говорить — мы с Маней уже раньше заметили это.
Некоторое время мы все едим молча: с полным ртом не разговоришься. Меля ест, прямо сказать, с упоением. На нее даже интересно смотреть. Съев семгу, она облизывает пальцы, потом вытирает их бумажкой и берется за телятину. Пирожных у нее два: наполеон и трубочка с кремом.
Она протягивает их нам на ладони:
— Которое раньше съесть, которое — потом, а?
— А какое тебе больше нравится, с того и начинай.
— Оба нравятся! — говорит Меля даже со вздохом, но, подумав, берется за наполеон.
Мы с Маней тоже доедаем свой завтрак.
Меля съела пирожное наполеон и принимается за трубочку с кремом. Но, едва надкусив, она корчит гримаску:
— Крем скис… Фу, какая гадость!
С размаху Меля ловко бросает пирожное в мусорный ящик. Слышно, как оно мягко шмякается о стенку ящика.
— Сколько раз я тете говорила, — капризно тянет слова Меля, — не давай мне пирожных с кремом! А она забывает! Не может запомнить, — смишьно!
Глава третья. А ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСЕ ДЛИТСЯ!..
Урок танцев происходит в актовом зале. Зал — большой, торжественный, по-нежилому холодноватый. В одной стене — много окон, выходящих в сад. На противоположной стене — огромные портреты бывших царей: Александра Первого, Николая Первого, Александра Второго. Поперечную стену, прямо против входа в зал, занимает портрет нынешнего царя — Александра Третьего. Это белокурый мужчина громадного роста, тучный, с холодными, равнодушными, воловьими глазами. Все царские портреты — в широких золоченых рамах. Немного отступя от царей, висит портрет поменьше — на нем изображена очень красивая и нарядная женщина. Меля объясняет нам, что это великая княгиня Мария Павловна, покровительница нашего института. Под портретом великой княгини висит небольшой овальный портрет молодой красавицы с лицом горбоносым и надменным. Это, говорит Меля, наша попечительница, жена генерал-губернатора нашего края Оржевского.