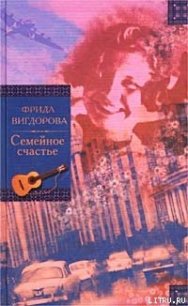Черниговка - Вигдорова Фрида Абрамовна (прочитать книгу TXT) 📗
Семен, бывало, говорил: «Ты у меня сильная, ты сильный человек». Днем я не успеваю задуматься, справедливо ли это. Побывать в райторге, леспромхозе, в школе, поломать голову над завтрашним обедом, помочь ребятам с уроками, разобраться во всех дневных происшествиях, посидеть за счетами… Когда уж тут задумываться? Но потом я возвращаюсь домой. Иногда это бывает не очень поздно и ребята еще не спят. Мне не надо ни о чем спрашивать, я знаю: будь письмо, Лена примчалась бы с ним на Незаметную, или, едва переступив порог я услышала бы это долгожданное слово: письмо!
Писем не было. Мой адрес знали в Московском гороно и тетя Варя в Ленинграде, и в семье Антона Семеновича. Мы так и условились с Семеном, что по одному из этих адресов он меня разыщет. Но писем не было. Уже месяц прошел, как мы в Заозерске, и выпал снег, а писем нет, нет…
Я написала в Москву Боре Тамарину. Он не поехал с нами на Урал, остался у тетки, сказав, что она больна и без него пропадет. Я просила его навести справки в военкомате. Ответ тревожный: адресат выбыл. Куда же он выбыл? Если Боря уехал, увез тетку из Москвы, почему же не сообщил своего нового адреса?
Как болит за них сердце – за всех, о ком нет вестей…
Чаще я приходила домой, когда ребята спали. Дарья Симоновна ждала меня в кухне и тотчас давала поесть – мучной суп или картошку с постным маслом. Потом она тихо ложилась, могла лечь и я. Вытянуться на постели после длинного трудного дня было счастьем. Иногда мне удавалось даже уснуть но ненадолго. Пока шел день, я не знала, что задело меня всего больнее и глубже. Но по ночам просыпалась, как от толчка, и толчок был – самое трудное, что случилось за день. Разные это были случаи, но за каждым стояло одно: я слабый человек. Я была сильна за широкой спиной Семена. Я была сильна в простой, мирной жизни, в той далекой жизни, где все было ясно и просто: под ногами земля, над головой небо, а рядом Семен. И что бы ни случилось – все можно вытерпеть.
А сейчас? Сейчас я осталась одна, и это одиночество мне не по плечу, я боюсь его, оно угнетает меня и лишает веры в свои силы. Оказалось, все, решительно все в этой жизни трудно. Легко только, с ребятами. Стоило мне перешагнуть порог дома, столкнуться со взрослыми, как меня встречала обида. Она была многолика и разнообразна – от грубого окрика в учреждениях, где я обивала пороги, до молчаливого презрения Ступки («Ох, жинки, жинки!»). С Ирой Феликсовной было легко и просто, как с моими девочками. С Петром Алексеевичем – куда труднее. Он работал очень хорошо. Не было предмета, по которому он не помогал бы ребятам. Самая хитроумная задача по математике, по физике, дебри истории, географии – он знал все. Но этот человек состоял из одних углов. Вот он задыхается от астмы, бледнеет, тяжело дышит, страшно кашляет. Трудно на него смотреть.
– Подите прилягте, – прошу я.
– В могиле належусь… – неизменно отвечает он.
– Что вы как чудно отвечаете, – сказала однажды Лючия Ринальдовна и, обращаясь ко мне, прибавила: – Мужчины иной раз как дети, ну, сущие дети.
– Да… Дети… Сукины дети… – сказал Петр Алексеевич, и после этого я боялась к нему подступиться.
…Если бы пришло письмо… Если бы хоть несколько слов… Зачем? Одно, только одно слово: жив. И все стало бы по-другому. Я стала бы неуязвимой. Твердой. Я совсем иначе ходила бы по земле. Совсем иначе говорила бы с людьми, и никто бы не мог мне ответить: «С луны свалилась».
Но письма не было.
Девочку из Орловской области звали Аня Зайчикова. Она отбилась от семьи, но ни минуты не сомневалась, что снова ее найдет. Была она круглолицая и круглоглазая, с соломенными прямыми волосами и белесыми, всегда удивленно вскинутыми бровками. Когда что-нибудь радовало, огорчало или сердило ее, она говорила на разные лады: «Ах-ах!»
Она охотно рассказывала о своей семье:
– Нас пять сестер. А мама сказала: «Пока мальчика не рожу – не успокоюсь». И родила-таки мальчика, назвали Коля. Он у нас шестой. Правда, Галина Константиновна, какое хорошее звание: Коля? Самое мое любимое. – И тут она произносила звонким ласковым голосом: – Коля! Коля! А не люблю я звание Андрюша. Грубое звание какое, вот послушайте. – И басом она произносила по складам: – Ан-дрю-ша! А самая лучшая моя сестра – Надя, она у нас самая старшая. Такая хорошая девушка, такая добрая, такая бесхарактерная. Никогда не кричит, никогда не сердится, а слова плохого – ну, ввек от нее не услышишь.
Аниным шефом вызвалась быть Тоня Водолагина, и Аня охотно пошла к ней в неволю. Она тотчас стала говорить: «Мы с Тоней» – и делала все так, как велела Тоня.
Был еще у нас новенький Сеня Винтовкин. Я его сразу полюбила, потому что его звали Сеней, но он никого не полюбил, оказался отчаянным озорником, в школу еще не так как был всего семи лет от роду, а услыхав, что в шефы ему назначена Настя Величко – самая тихая и самая добрая девочка во всем нашем доме, – сплюнул (так-таки прямо и плюнул на пол) и сказал:
– На фиг она мне сдалась!
Он немало уже мотался по вокзалам и дорогам военного времени и совершенно походил на беспризорника начала тридцатых годов – та же залихватская повадка, тот же словарь.
– Я тебе что, легавый? Пошел ты знаешь куда?.. Ещё чего!
Низколобый парень, напугавший меня своим угрюмым видом, оказался тих и покладист па удивление. Лючия Ринальдовна утверждала, что он сущий теленок. У него была заветная мечта – стать поваром, поэтому всякую свободную минуту он проводил на кухне и очень толково помогал Лючии Ринальдовне. Наверно, ему при этом перепадала лишняя миска супа но он работал не за страх, а за совесть, и Лючия Ринальдовна любила, когда на кухне дежурил Триша Рюмкин.
Ну что ж? Ребята как ребята. Может, все обойдется?
А тем временем Ступка получил заказ: наши мастерские должны были делать детские игрушки и… именные медальоны – маленький деревянный футляр, в который вкладывается листок с именем и фамилией бойца.
– Откуда у тебя эти калоши?
– Нашел.
– То есть как это – нашел?
– Честное слово: иду, смотрю, валяются калоши. Я и взял.
Калоши новые, хорошие. Почему они валялись на улице? Кто их бросил? Зикунов, мальчик из новеньких, самый худой, самый щуплый, с острым личиком и впалыми щеками, смотрит на меня уныло и равнодушно.
– Галина Константиновна! – слышу я на другой день. – Поглядите, какие я калоши нашла! – Это говорит Аня Зайчикова.
И почти следом за ней появляется Сеня Винтовкин с большими, видимо с валенок, калошами.
– Нашел? – спрашиваю я.
– Нашел, – отвечает он независимо.
Что это за город, где на улице валяются калоши? И почему я, исколесившая его вдоль и поперек, никогда не находила на дороге ни калош, ни другой обуви?
Все были опрошены заново, и все стояли на своем: «Иду, смотрю, калоши валяются».
Посреди этого разговора открылась дверь, и вошла молодая женщина в новом белом тулупе и новеньких белых бурках. За руку она тащила Тришу Рюмкина. Женщина не поздоровалась, она с порога крикнула:
– Наехали! Уголовники! Только и умеют – воровать!
Я поднялась ей навстречу, но она, не глядя на меня, продолжала кричать:
– Жили без них, как люди! И вот наехали! Только вас и не хватало!
Следом за ней показался старик с очень смуглым, навек загорелым лицом.
– Здравствуйте, гражданочка! – мягко заговорил он. – Вы крику не слушайте, но вышла неполадочка. У нас в городе обычай – уж не помню, с какого времени, – как стоит город, так и обычай: обувку оставляем на крыльце, чтоб в дом грязь не тащить. Ну, а ваши не поняли. Думают, плохо лежит, отчего не взять. А это обычай, честный обычай.
– Что ты им объясняешь? Она что, маленькая, не понимает? Ей ее атаманы ворованное тащат, а она и рада. Больно ты ловка, гражданка эвакуированная!
– Ну-ка, пошли отсюда! – сказал Шура Дмитриев, и пока я, задохнувшись, искала, что ответить этой женщине, Шура подошел к ней, как-то быстро и ловко повернул и легонько подтолкнул к выходу.