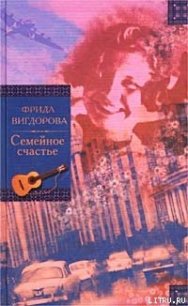Любимая улица - Вигдорова Фрида Абрамовна (электронные книги без регистрации .txt) 📗
Но все хвалили книгу, в нескольких газетах даже появились рецензии, очень лестные. Книгу обмыли. Их с Мариной заставили устроить банкет, было много выпито, много сказано хороших слов. Книге очень обрадовалась Катя. Увидев ее, она воскликнула:
— Эм. Лаврентьева? Это которая — пока в Париже еще зевают, она уже всех обскакала?
Книге очень обрадовался Константин Артемьевич, он гордился ею, понес ее на работу и, небрежно вынув из портфеля, сказал коллегам:
— Растет молодежь. Мой зять, между прочим.
Поливанов послал книгу Леше и получил от него поздравительную телеграмму. Но праздника не было — все вокруг было тускло.
— Поливанов, ты что ходишь как в воду опущенный? Или денег мало получил? — спрашивали друзья.
Нет, и деньги появились. И были куплены подарки: детям — по новому платью, и зимнее пальто Анисье Матвеевне. Но ничто не радовало. Он был свободен. Свободного времени у него оказалось хоть отбавляй. Теперь бы так просто было вообще не возвращаться домой, только приходить навещать время от времени детей. Каждый вечер — он это знал — его ждала Марина. Но он к ней не шел. Почему? Это ли не новое предательство? Еще одно.
Раньше, бывало, поднимаясь по ее лестнице или заглядывая в ее окно, он думал с досадой: «Неужели у нее кто-то есть?» Теперь он счастлив был бы узнать, что она не скучает, что ей хорошо. Но знал: она скучает. Ей плохо. Так что же случилось? Ведь не укоры же совести преградили ему путь к этой женщине? Нет, дело не в том. Когда рядом была Саша, пусть даже на время забытая, ему все было нужно: успех, уверенность и даже новая любовь. Но без Саши ничего ему не нужно. Иногда в темноте ночи ему казалось, что легче просто ослепнуть, чем потерять ее. Никто не задумывается над счастьем видеть, слышать, дышать. Кто радуется тому, что не родился глухонемым? Да никто! Ну, а если перестанешь слышать? По сравнению с этой болью слепоты, глухоты — не могла быть счастьем другая любовь, и ничье другое присутствие не могло его обрадовать. Он понял это только теперь. Ладно. Он это понял. Но как же быть с Мариной…
Крушение Сашиной жизни — это крушение его собственной жизни. Когда он думает о Саше, слово «вина» не приходит на ум. Тут другие слова: «боль», «горе». Когда он думает о Марине, только одно это слово и приходит в голову: «вина». Сам не понимая, как это могло случиться, ибо каждому человеку он хотел добра, шаг за шагом он шел по дороге вины и зла — стоило ему оглянуться в прошлое, как он видел это отчетливо, беспощадно.
Когда же это случилось? Когда он впервые поцеловал ее руку, которая легла на его плечо? Нет, гораздо раньше. Когда он впервые пришел к ней в дом? Когда впервые услышал от нее слово участия?
Что же, не может женщина быть другом? Товарищем? Может, но он видел в ее глазах другое, и желал этого, и радовался этому, а перед собой притворялся, будто не понимает.
Так он думал на работе, и ворочаясь в кровати без сна, и долгими ночами в поезде. Ничего уже нельзя было исправить, а он все разматывал и разматывал клубок. «Что за пустые мысли? Зачем я об этом думаю? Столько дел, забот, а я, точно баба, копаюсь в каждой мелочи. Как будто это может что-нибудь изменить».
И сколько он ни думал, а додумать этой мысли до конца не мог.
В те дни его утешением была Катя. Аня много времени проводила в Серебряном переулке. Казалось, для нее не только он сам, но и воздух вокруг него стал чужой. Даже то место, где он был — стоял, сидел с книгой и за работой, вызывало у нее неприязнь. Ее глаза скользили мимо, никогда не встречаясь с его глазами.
В черных Катиных глазах укора не было. В них была любовь. Большущие, словно всегда удивленные, они казались круглыми.
Однажды вечером он пришел с работы пораньше — теперь это удавалось ему часто. Дети были дома. Аня куда-то собиралась.
— Ты куда? — спросил он чуть неуверенно.
— К подруге, — и, не взглянув на него, прошла мимо. Он посмотрел ей вслед, увидел прямую спину, подросточьи длинные ноги и светлую косу.
— Катя, — сказал он, — давай-ка сыграем в шахматы.
Вместо ответа она запрыгала.
— У, лентяйка! — сказала Анисья Матвеевна. — Лишь бы уроков не готовить. Чуть ли не с отца вымахала, а скачет, как малый ребенок.
Платье ей было коротко. Она росла так быстро — не напастись на нее. Кроме того, она вечно протирала локти. Все учатся, все кладут локти на парту, но все люди как люди, рукава целы. А у Кати…
— Матери нынче нет тебе локти латать. А у меня работы и так хватает…
Анисья Матвеевна теперь все ворчала, ворчала без роздыха.
— Папа, — сказала Катя шепотом, — пойдем к тебе, а? Тут тетя Анися нас заговорит.
И они перешли в Митину комнату.
— Я сяду на мамино место, — сказала Катя. — Если бы ты знал, как я скучаю. А ты, ты очень скучаешь?
— Очень…
— Папа, ты проворонил слона. Но я прощаю тебе, возьми ход обратно. Папа, я и по Феде скучаю. Я к нему так привыкла, как будто он и вправду мне брат. Папа, мы летом поедем к ним, да? И привезем маму сюда. Нет, летом мама сама к нам приедет! Папа, твой ход!
Раздался телефонный звонок. Могли звать Аню, Катю, Анисью Матвеевну. Но он вскочил, потому что почуял: звонят ему. И не ошибся.
— Дмитрий Александрович? Здравствуйте, — сказал по ту сторону провода спокойный женский голос, — приходите ко мне сегодня вечером. Я не спрашиваю, заняты ли вы и хотите ли быть у меня. Я жду вас. В десять.
Раздались короткие гудки. Голос погас, не дав ему времени ответить.
— Ты уходишь? — спросила Катя. — Сдаешься?
— Сдаюсь, — сказал он, надевая пальто.
Анисья Матвеевна убирала со стола. Взглянув на него, она сказала тихонько:
— Опять за свое, горе ты наше, эх, за ум было взялся!
Он уже не слушал. Он надел пальто, прошел по коридору, сбежал по лестнице и, схватив такси, помчался к ее дому. Он замедлил шаг только у ее дверей, как школьник, приносящий матери двойку. Но другой дороги сейчас не было. Подняв руку, он позвонил и услышал ее шаги. Сколько раз он им радовался, а сейчас что-то внутри у него испуганно похолодело.
— …Я, как и вы, не люблю выяснять отношения, — говорила она, стоя у окна спиной к Поливанову. — Я не верю, что с помощью слов можно что-нибудь выяснить. Но есть обстоятельства, которые надо назвать словами… И поступки такие тоже есть… Я не хочу задавать лишних вопросов, я только хочу спросить, что случилось?
Он молчал. И она обернулась к нему.
— Митя, — сказала она, — вы теперь один, я правильно поняла? Саша уехала?
Он молчал.
— Так что же случилось? Отвечайте. И не смотрите, пожалуйста, как провинившийся школьник. Я позвала вас сегодня не к ответу. Впрочем, к ответу… Я помогу вам… назову все своими именами. Вы… Вы любите свою жену?
Он молчал. И она сказала:
— Ну, вот видите, я вам помогла. Я никого никогда не держу, я не держу человека ни за руку, ни за слово. Но о чем вы думаете, когда говорите «люблю»? Не знаю! Вам оно легко дается, это слово!
— Нелегко, — сказал Поливанов.
— А я думала… — продолжала Марина Алексеевна, — впрочем, я не о том. Скажу про себя… Хотя сейчас не время говорить о себе. За моим «люблю» стояло настоящее… И… я, кажется, говорю чересчур высокопарно… Но я не хочу выбирать слов. Когда человек любит… Хорошо, я знаю, я смешна…
— Да что вы! — сказал Поливанов.
— Молчите! — вдруг закричала она, забыв, что минуту назад призывала его к ответу. — Я не прошу вашей снисходительности. Вот уж чего мне не нужно! Воистину! Я хочу только знать: зачем, зачем все это было? О чем вы думали? Что вы сделали? Ваша жена…
— Не будем о жене, — сказал Поливанов.
— Ах, вот как! «Не будем о жене!» Как вы все забываете о своих женах, как топчете их, пока добиваетесь победы на стороне. И как ничего не щадите тогда… Тогда ни дети, ни жена…
Ему очень хотелось встать и уйти, но он решил дослушать до конца. Она не могла сказать ему ничего такого, чего бы он о себе не знал. Все горькие слова, какие только есть на свете, он уже сказал себе, и принял их, и повесил себя, и растоптал, и уже поплакал на своей могиле, и плюнул на нее, и отошел в сторону, и сказал себе все с самого начала. Он так знал каждое слово, которое она скажет, что почти перестал слышать. Но это только так кажется, будто все предвидишь и знаешь наперед. Нельзя знать другого человека, как себя, потому что и себя не всегда до конца понимаешь. И вдруг из потока ее раскаленных слов, в которых слышались слезы, вырвалось одно железное, твердое: