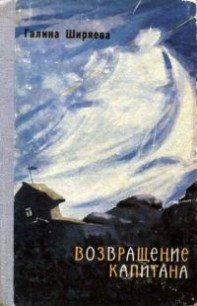Утренний иней - Ширяева Галина Даниловна (книги онлайн .TXT) 📗
— Она маленькая была. Не надо так, — глотая подступившие к горлу слезы, сказала Настя. — Не надо, пожалуйста, больше…
— Ладно, ладно, Настасенька, не буду! И так во всех инстанциях наговорились… Так вот ведь, Настенька, не признали за ней правды! Вот ты ее жалеешь, из-за нее со мной поссорилась, а за ней-то ведь правды так и не признали!
Зачем он возвратился к этому снова?
— Судить-то легче всего со стороны, Настасенька! Пережить то время, Настасенька, надо было, чтобы судить. На своей шкуре то время вытянуть. Неизвестно, дорогая моя, как бы тогда все повернулось-то еще… А ты судишь!
Он несколько раз повторил это слово — судить. И каждый раз при этом взглядывал на Настю, словно ждал, как она отзовется на это слово. Он боялся Настиного суда?
А кто дал ей право судить родного деда?
— Так пошли чай-то пить, Настасенька!
— Пошли, дедушка.
Они пили чай с медом.
Тихий, семейный, уютный вечер пришел к ним в квартиру рано. Оттого, наверно, что и мать и отчим пришли с работы раньше времени — наверно, беспокоились за деда. А дед был за ужином очень веселым, шутил, смеялся, потом начал рассказывать смешные истории из своего детства. Потом и мать рассказала, как в первом классе, когда были такие забавные чернильницы-непроливайки, она умудрилась целую непроливайку пролить на платье соседки по парте.
— Кто-то эту самую непроливайку изобретал, мучился, — смеялась мать, — а я раз — и готово! Изобретение — долой!
— А та девочка? — спросила Настя.
— Какая девочка? — не поняла мать.
— Ну, на которую непроливайка вылилась?
— Ах та! Ну, слезы лила, конечно. Больше их пролила, чем я чернил… Кажется, ее мать потом это платье в черный цвет покрасила. Так и ходила потом в черном платье. Помню — долго ходила.
Почему им не было жалко эту девочку в черном платье? Почему ни мать, ни дед не чувствуют того, что чувствует Настя? Или в самом деле виноват здесь интернат и Евфалия Николаевна? Ведь и Евфалия Николаевна была когда-то такой же девочкой в черном платье…
Она сидела над нетронутой чашкой чая и смотрела в эту чашку, над которой уже не вился пар.
— Здрасьте, дорогие мои! — недовольно сказал вдруг дед. — Наша Настасья опять вроде на меня дуется, как пузырь.
— Не обращай внимания, отец. Переходный возраст у них нынче скоростной, вот и выкидывает фокусы… Кстати, что новенького сегодня было в школе, Ася?
— Ничего.
— Так совсем и ничего? — Мать почему-то спросила это с настойчивой заинтересованностью, совсем несвойственной ей, когда она говорила о школе. — Так совсем и ничего?
— Ничего.
— Гм. Ну ладно… Будем надеяться — еще появится что-нибудь новенькое.
— Настасенька? А что же ты опять бука букой? Вот уеду я завтра утром домой и теперь уж только на Новый год приеду. Так и будешь на меня до Нового года дуться?
— Нет, — тихо сказала Настя. — Я не буду.
— Ну, слава богу! Что к елке-то тебе подарить? А?.. Настасья, я спрашиваю, что к елке-то подарить?
— Спасибо… Я не знаю.
— Кто ж знает?
— Вот уж, действительно, никто не знает! — вмешался отчим. — Когда у ребенка есть все, что душе угодно, и даже больше, то уж, конечно, никто не знает.
— Ну, а ты помолчал бы! — сурово проворчал дед. — Ты в семье нашей человек новый. Может, и случайный. Да и не первый, между прочим. А у нас она одна. Единственная. Надежда наша. Все в ней. И прошлое наше и старость. Да и за гробом — надежда. Последняя в роду. Последняя и единственная.
Настя почувствовала, что сейчас расплачется, встала из-за стола и ушла к себе.
Она включила настольную лампу и раскрыла учебник физики. Уж в который раз она раскрывает его, а дело не идет. В голову лезут совсем другие мысли. Да и какой параграф учить, она не знает. Да и все равно ей разрешили завтра не приходить в школу…
Настя захлопнула учебник. Чтобы хоть чем-нибудь заняться до сна, обернула дневник бумагой (так Виолетта и не принесла ей синей, бархатной), сняла платье, надела халатик, повесила платье в шкаф.
Из кармашка платья выпал листок бумаги — записка с адресом Тамары Ивановны. Настя машинально развернула листок. Адрес своей классной руководительницы она и так знала — Тамара Ивановна жила в том же доме, что и Виолетта.
Но там был записан еще один адрес:
«Село Миловановка. Средняя школа. Евфалия Николаевна».
Ночью ее разбудил удар колокола: «Донн!»
Она проснулась мгновенно и села на постели с громко колотящимся сердцем.
Наверно, кто-то случайно или из озорства, проходя мимо их двери, нажал кнопку дверного гонга, и он ударил в ночи так страшно, как колокол.
А в первый момент ей показалось, что это ожили застывшие мертвые часы с тусклым маятником, которые все хотели и не могли рассказать ей о чем-то.
«Донн!» — все звучал этот звук в комнате. То ли в комнате, то ли в Настиной душе. Очень ясно, очень отчетливо звучал. И что-то было в этом тревожном звуке такое знакомое, по-страшному знакомое… Напоминал этот звук о чем-то, о чем она старалась в последнее время не вспоминать. Или забыть старалась?
«Донн!» — по-прежнему ясно и отчетливо звучал в ней этот странно знакомый звук.
И неожиданно она вспомнила глаза Евфалии Николаевны в тот метельный интернатский день, когда та оторвала свой взгляд от снежной завесы за окном учительской и сказала: «Прости меня, Настя!» И тут же эти глаза заслонило лицо деда, родное лицо деда, вдруг ставшее похожим на лицо колдуна из «Страшной мести».
А может быть, как и в «Страшной мести», кто-то в их роду должен ответить?
Может быть, это она, Настя, должна ответить? Ведь она в их роду последняя. Последняя и единственная!
Она тихо опустила голову на подушку и лежала так долго-долго на спине, вглядываясь в высокий, слабо белеющий в темноте потолок комнаты.
А потом она вновь услышала очень ясно и очень отчетливо: «Донн!»
Нет, это были не часы в соседней комнате. И не дверной гонг. Уже спокойно, с ясной, холодной головой она вспомнила, ни что был похож этот звук, так ясно и четко прозвучавший в ее душе.
Так звучит колокол-памятник над сожженной фашистами деревней.
Утром она пошла в школу. Пошла потому, что у матери был выходной и пришлось бы что-нибудь сочинять, чтобы не выдать Тамару Ивановну, которая так по-странному разрешила ей сегодня в школу не приходить. А еще потому, что не хотелось оставаться дома.
Дед уехал чуть свет, с первым автобусом. Он уехал спокойный, даже радостный. А у Насти на душе было неспокойно и нерадостно.
Утренние сумерки сегодня были особенно густыми. Там, над рекой, висело темное, почти черное небо. Наверно, к городу из-за реки плыла огромная туча, неся на своих крыльях буран или метелицу, которую так красиво изображала на сцене Таня Копейкина. Но беленькая румянощекая Таня была во всем белом, блестящем, а то, что надвигалось на город, было мрачным и еще больше сгущало сумерки, которым пора было рассеиваться, потому что шел уже девятый час.
Шел девятый час, и Настя прибавила шагу.
Ярко освещенная школа вывернулась из-за угла, как красивый теплоход выплывает на ночной реке из-за крутого острова. А застекленный, залитый светом вестибюль, коробкой выступающий вперед, к самому тротуару, напоминал светящийся елочный домик.
Почти у самого школьного крыльца ее догнала Аллочка Запевалова.
— А! Букатина! Здравствуй, Букатина! Что это ты вчера опять в школе не была, а? Я к тебе зайти хотела, а сама Тамара Ивановна сказала: «Не надо». Она что — твоя старая знакомая, что ли? А, Букатина? Нет?.. А что ж ты тогда у нее блатные четверки получаешь?
Настя крепче сжала ручку портфеля, чтобы удержаться, чтобы не сказать Запеваловой какую-нибудь гадость или еще хуже — опять не трахнуть ее этим портфелем. Аллочка же не отставала от нее ни на шаг, и на школьное крыльцо они поднялись вместе под не умолкающий Аллочкин говорок: