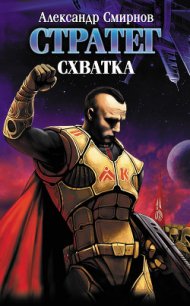Чекисты рассказывают... - Зубов Алексей Николаевич (первая книга .txt) 📗
— Смотря какое. Если по моим силам, так выполню.
— Другого ответа я от тебя и не ожидала. Ты знаешь Аннушку Прищемихину?
— Ту, что в милиции служит?
— Ту самую. Передашь ей мою грамотку и ответ принесешь.
От изумления Дуня не знала что и сказать, а старица ее успокоила:
— Не бойся ты! Аннушка предана нашему делу до конца.
— Но ведь она же в милиции!
— Мы благословили ее на этот подвиг.
Аннушку Прищемихину Дуня знала, как все знают друг друга в небольшом поселке. Она слыхала, что Аннушка сирота, что девушку бросил жених. Сначала надсмеялся, а потом бросил. Девка недалекая, простоватая.
Пыль на дороге. Солнце припекает. В поле стоит трактор с комбайном. Около машины суетятся девчата в замасленных спецовках. У них что-то не ладится. Хотела подойти и узнать, да передумала: что она им может сказать? А помочь тем более не сможет. Идет Дуня по обочине дороги, покрытой булыжником, построенной недавно для военных перевозок. Фронт близко. В тихие ясные вечера доносятся дальние отзвуки артиллерийского поединка. По радио каждодневно передают о тяжелых боях. На этом фронте сравнительно тихо, а кто знает, где и как развернутся бои дальше?
По бокам дороги несжатые поля, а по дороге разгуливают стаи жирных грачей, обожравшихся пшеницей. «Зеленые девчонки возятся с тяжелыми машинами, мужики вместо тракторов водят танки. А она таскается черт знает по каким делам, встречается с жуликами и дурами. Сама видела, что сектанты заклятые враги, помогают немцам, разоряют колхозы, видела, как они детей губят. Хуже зверей — те никогда не обижают детенышей».
Макаровна отчитывалась:
— Все я, Дунюшка, сберегла. Молоко частью сдавала, частью на масло, на творог. С огорода овощ пожертвовала на победу, правда не всю, частью на рынке продавала. Яблоки пора убирать, падалицы много. Что собрала, на повидло переделала. Теперь уж сама распорядись с теми, что снимать пора. И мне немножко — замочить хочу.
— Ладно, Макаровна, потом, дай оглядеться.
— Оглядись, не спеши. Время терпит. А как там у матушки Елизаветы? Удосужилась ли побывать на ихнем молении? Она сказывала, что много благолепия.
— Не удосужилась. Потом поговорим.
Как только стемнело, Дуня пошла к Ивану Петровичу. Выслушал он ее с большим интересом. Записку Аннушке Прищемихиной прочитал, снял копию и велел вручить. В записке не было ничего подозрительного: справлялась о здоровье, спрашивала, не может ли она медку купить для нее, да какие цены...
Начальник просил узнать у Прищемихиной о сектантах в райцентре. Их присутствие здесь пока не ощущалось, а, оказывается, и сюда протянули лапы, да еще в милицию!
У Аннушки Прищемихиной короткие ноги и тусклые бесцветные глаза. Лицо будто недопеченный блин. И вся она какая-то бесформенная, оплывшая. Записку Елизаветы приняла с сонным видом, прочитала не торопясь и сказала:
— Ладно, сейчас ответ напишу, подожди.
— Скажи мне, Аннушка, как ты можешь служить в милиции, коли заодно с верующими?
— В милиции меня насчет веры не спрашивают, в церковь я не хожу. Спаситель наш учил своих апостолов: «Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи». Кротость у меня от рождения, а хитрости обучает мать Елизавета. Служу исправно, на дежурство не опаздываю, с начальством не пререкаюсь, вот меня и держат. Мужчин-то теперь где возьмешь?
— И давно ты знакома с матушкой?
— Еще до войны. А как началась война и стали ловить дезертиров — братьев наших, тут я и пригодилась. А ты-то как завела знакомство со старицей? Муж-то у тебя ведь коммунист.
— Нет у меня мужа, на войне погиб. Одинокая стала я.
— Я привыкла с малых лет к одиночеству.
— И тебе не бывает грустно одной?
— Раньше бывало, а нынче нет. Вот, почитай, — и достала из-под подушки тетрадь, а в ней стишки, написанные от руки печатными буквами.
— Где ты такие стишки выкопала?
— Мне их дала матушка для душевного успокоения. Как нападет тоска и томление, я за тетрадочку, и все проходит. Я многое наизусть выучила. Вот, передай старице. На словах расскажи, что недавно арестовали двоих братьев, дезертиров Павла Кувшинова и Гришу семкинского. Оба на допросах молчали, как истинные христиане, и где хоронились — не выдали, ни о ком не сказали ни слова. Их в тюрьму увезли. И еще передай матушке, что я верой крепка и на службе без подозрений. Она беспокоилась, но я ведь не глупая, знаю что к чему. Есть у меня заветная мечта: получить личное благословение благочестивого старца Федора, нашего главного наставника и заступника перед престолом всевышнего. Матушка обещала устроить свиданку, но теперь говорит, что пока у власти антихрист, старец из катакомбы не вылазит и благословляет только избранных и самых усердных «истинно православных». А уж я ли не стараюсь? Поклонись ты от меня матушке — может, умилостивит старца?
— Скажу, — обещает Дуня и думает: «Мне-то самой нужно найти этого старца, только как?»
VI
Утром явилась Макаровна. Первым делом справилась о здоровье тетушки. Поговаривают, что Дуня порешит все хозяйство и к ней насовсем переберется.
— Тетя постарела и здоровьем слабая. Приняла меня с радостью. К себе зовет. Домик у нее маленький, но жить можно.
— Неужели, Дунюшка, тут тебе на родительском месте худо? Смотри не промахнись. Уж коли с тетушкой вместе жить, так она пусть к тебе перебирается.
— Я звала, да она тоже толкует о родном гнезде. Погодим, подумаем.
— Погодим.
Макаровна еще хотела бы поговорить, но Дуня сослалась на нездоровье и выпроводила старуху.
Две недели Евдокия пробыла в Куйме, а не в Липецке: тетушка для отвода глаз — так посоветовал Иван Петрович. Присматривалась к истинно православным, слушала поучения старицы и наивные россказни простоватой Феклы. Крайне осторожно, чтобы сектанты не заметили, беседовала с колхозницами. И чем больше знакомилась с изуверами, тем сильнее нарастал гнев в ее душе, тем противнее становилось общение с ними. А от цели была далека. Елизавета все окружила ореолом таинственности и загадочности и не спешила показать «настоящих подвижников».
Разговоры с Феклой кое-что прояснили. Она слепо, без рассуждений принимала все, что было сказано ей о боге, о вере, о царстве небесном. Ко всему Фекла прикладывала земную мерку куйминского масштаба, все подводила под свою повседневность. Дальше Куймы она не бывала. Когда-то в начальной школе выучилась читать, а после школы ни разу не взяла в руки ни книги, ни газеты.
Речь зашла о председателе колхоза.
— Антихрист меня смущает — на работу заманивает. Ведь до того как старица меня просветила и направила на путь спасения, я в колхозе была в почете, на работе старалась, премии, грамоты получала.
— Интересно — покажи-ка грамоты!
— Я их сожгла в печке, на них печать антихриста.
— О каком Мишутке тогда говорил председатель?
— Сынок у меня был старшой, Михаилом звали. На войне убили. Работал он до войны трактористом. Комсомольцем был. Старательный и смиренный парень. А вот бог покарал за неверие. Как получила похоронную, все во мне перевернулось, думала с ума сойду, вот как жалела! Спасибо, мать Лизавета успокоила, свет истинный мне открыла. Ныне я своей твердой верой, молитвами и смирением выпрошу у господа, чтобы Мишеньке простились его грехи и хоть бы на том свете ему вышло облегчение...
В другой раз Фекла вроде бы похвалилась, на какие жертвы она пошла ради спасения себя и своих детей:
— Жили мы справно; я много зарабатывала и Мишенька тоже не меньше меня. Ведь в те годы до самой войны в колхозе не худо давали на трудодень. Софрон ничего в дом не приносил, но и из дому не тянул. Он по печному делу мастер, во всей округе работал, не в колхозе. А что заработает, то и пропьет. Была у нас корова, телка, двух овец держали, ну и куры там, утки. Справно жили.
В словах Феклы звучали довольные нотки, в глазах загорались радостные огоньки и сразу гасли. Спохватывалась, что увлеклась, торопливо крестилась и глаза тускнели.