Первое имя - Ликстанов Иосиф Исаакович (список книг .txt) 📗
— Да, отдашь ножик! — безжалостно повторил Паня. — Потом представишь Ираиде Ивановне, как котенок ночью ловил мышей и наткнулся носом на ежа. Можешь и Моньку с собой взять, дрессированные фокусы показывать. Ираиде Ивановне полезно, чтобы шума было больше, так что ты постарайся… Ну, чего ты так кряхтишь? Ножика тебе жалко, да? Скажи хоть слово, так сразу пожалеешь!
— Пань, ты, пожалуйста, не думай, будто я не понимаю. Я отдам ножичек и все сделаю… мне не жалко… — заверил его Вадик и а опровержение этих слов шумно втянул воздух носом.
— «Ах-ох»! — передразнил его Паня. — Не плачь на телефонный аппарат — испортится…
— А ужа можно Ираиде Ивановне принести в гости? — угрюмо спросил Вадик.
— Ужа не надо. Ты же знаешь, что женщины глупо боятся ужей. Ну, пока!
И Паня подул в трубку.

Часть пятая. Первое имя
На рыбалку!

На минуту оторвавшись от работы, Паня окидывает взглядом краеведческий кабинет.
Фабрика, да и только! За овальным столом работают кружковцы. Крак! Это Коля Самохин расколол щипцами камешек и внимательно рассматривает излом. И тукают молоточки, и повизгивают напильники, обрабатывая камешки.
На простом сосновом столе возвышается Уральский хребет. Конечно, он значительно меньше настоящего: высота главной горы всего семьдесят сантиметров, а две другие горы, отделенные от нее неглубокими перевалами, еще ниже. И этот хребет пока не каменный, а деревянный. Все деревянное — скалы, уступы, обрывы. Но вскоре клей прихватит к дереву образцы минералов, и горы станут настоящими.
Сегодня начнется монтаж Уральского хребта. На электрической плитке разогревается клей, а Вася Марков растирает в ступке обожженный вермикулит, превращая его в перламутровые хлопья. Этот блестящий радужный снежок ляжет между образцами минералов и скроет клеевые мазки на дереве.
Вдоль стола прохаживается Николай Павлович. Одному кружковцу поможет разметь полупрозрачный асбест в пушистую белую кудель; другому посоветует, как лучше расколоть камешек; побеседует с умельцами электрокружка, которые взялись электрифицировать коллекцию; заглянет к искусникам изокружка. Они устроились за шкафом самоцветов и готовят чехол для коллекции. Каркас чехла ребята выгнули из толстой проволоки по форме деревянного горного хребта, обтянули плотным холстом и расписали холст под дремучую тайгу.
По мнению Пани, самая интересная работа досталась ему. Он вынул из грота Медной горы заднюю фанерную стенку и тонкой ножовкой вырезал в ней гнезда для самоцветов, а помогал ему Гена: шаркая напильником, он убирал острые закраины кристаллов.
Работали они молча.
Странная штука — дружба! Сломали ее когда-то мальчики горячо, бездумно, а как медленно и трудно она восстанавливается. Вот уж и помирились Пестов и Фелистеев, нашли общее дело, в котором не могут обойтись друг без друга, проводят иного времени вместе, а все-таки между ними остался холодок. Федя считает, что виноват в этом прежде всего Гена: «Гордый он, все не может забыть, как ты верх взял». Неужели так и есть, неужели можно так упорно думать об одном и том же? И сейчас задумался Гена, низко опустились длинные ресницы.
— Ну, чего молчишь? — сказал Паня. — Расскажи хоть что по истории.
— Хоть что по истории? — насмешливо переспросил Гена. — Хочешь, расскажу историю, как сегодня один волевик «Песнь о вещем Олеге» перепутал, не смог сказать, что такое тризна? Ты не радуйся, что Анна Федоровна тебе четверку поставила. Я на ее месте влепил бы тебе двойку, и будь здоров.
— Чего ты за меня взялся, Фелистеев? — сделал страдальческое лицо Паня, уже раскаиваясь, что вызвал разговор. — Мало меня Федька ругал, да? Вам всем хорошо, у вас память как надо, а у меня памяти на стихи совсем нет.
— Ты не выдумывай! При чем тут память? Сколько ты песен помнишь? Целый день петь можешь, и всё разные. А стихи путаешь.
— Сравнил! Песня поется — пой, и всё тут. Если к стихам голос подберу, так сразу запомню, а к «Вещему Олегу» хорошего голоса не нашлось…
Казалось, что Николай Павлович подслушал их разговор.
— Наш староста забыл о своей дополнительной нагрузке, — сказал он, размешивая клей.
— Я сейчас, Николай Павлович! — обрадовался Паня.
Эту нагрузку он получил, когда Николай Павлович услышал, как Паня, дурачась, смешил кружковцев шуточной песенкой. «Да ведь ты умеешь петь!» — сказал Николай Павлович. Так Паня стал запевалой в кружке. Петь он не стеснялся. Не раз мать, тоже большая песенница, говорила ему: «Если петь хочется, значит душа летать просится. Надо ей, голубке, волю дать».
— Пань, спой «Полянку»? — потребовали ребята. — Залейся, Панёк!
Только-только он набрал воздуха, чтобы ударить с переборами и перехватами милую песню:
как дверь шумно распахнулась и вкатился Вадик.
— Николай Павлович, я за Панькой! — выпалил он, не обратив внимания на шиканье кружковцев. — Николай Павлович, сегодня рыбалка! Рыбалка с ночевой… Пань, собирайся! Григорий Васильевич уже к нам пришел с твоим ватником, и скоро машину подадут. Что ты сидишь как неживой!
— Кому нужно на рыбалку, мальчики? — сказал Николай Павлович. — Пестов, сегодня мы постараемся обойтись без тебя. Счастливого пути!
Рыбалка!.. Нет ничего прекраснее осенней рыбалки. О ней долго мечтают, к ней долго готовятся и под конец даже начинают сомневаться: да состоится ли вообще рыбалка в этом году, позволит ли погода? Но как же может не состояться рыбалка!
После надоедливых дождей небо на неделю-другую станет особенно высоким, воздух легким и острым, а дни наполнятся прозрачным золотом. И тогда горняки потянутся к Потеряйке, где их ждут смоленые долбленки, костры и гулянье.
Прежде чем лодка тронется в путь, придется поволноваться. Тысячу поводов для этого найдет Вадик. Почему долго не подают машину к дому? Почему она так медленно едет по лесопарку? И почему запаздывает вечер? Но все сделается в свое время. Спокойно погаснет в красно-медных, розовых и зеленоватых отсветах закат над Потеряйкой, рыбаки заберутся в просторную долбленку, днище которой выдолблено из толстой осины, а борта надставные, смотритель охотничьего угодья Фадей Сергеевич скажет: «Клев на уду, рыбу-кит на острогу!» — и, взмахнув снизу вверх белой бородой, столкнет лодку в воду.
Точно так же было и на этот раз.
Сначала плыли на веслах. Гребли все попеременно, за исключением Вадика, потому, что весла подчинялись ему неохотно и получалось много шума и брызг. С каждым взмахом весел лодка все глубже уходила в ночь, в тишину. Скалы и сосны на берегах стали черными, в небе густо зароились звезды, а в воде повисли синие огоньки.
— Начнем? — вполголоса спросил Филипп Константинович.
— Можем, — ответил Григорий Васильевич, уже стоявший на корме с шестом в руках.
Чиркнула спичка. Филипп Константинович поджег смольё — куски сухого соснового пня, сложенные на козе, то-есть на железных вилах, прилаженных к носу лодки; золотой пружиной развернулось пламя; душистый дым наполнил ноздри. Вадик принялся тереть глаза и расчихался.
Все вокруг сразу изменилось.
На небе сохранились только самые большие звезды, да и те стали тусклыми, неверными, а бесчисленные небесные искорки-пылинки бесследно исчезли. Лодку обступила темнота. Зато в воде, которая минуту назад была совсем черной, открылся подводный мир.
Мальчики свесили головы через борт лодки.
Отблески огня передвигались по мелкому чистому песку, собранному в мягкие складки там, где проходило сильное течение. На песке островками сидели водоросли — то пушистые, то вытянувшиеся по течению, как длинные, хорошо расчесанные волосы. И вдруг камень поднимал со дна мохнатую тупую морду, вдруг затонувшая коряга протянула к лодке волосатые лапы, вдруг дно круто падало в омут, и сердце чуть-чуть замирало над пустотой.
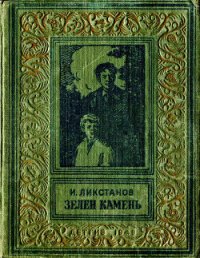
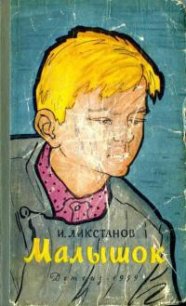
![ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНГИ [худ. Г. Фитингоф] - Ликстанов Иосиф Исаакович (книги txt) 📗](/uploads/posts/books/35599/35599.jpg)

