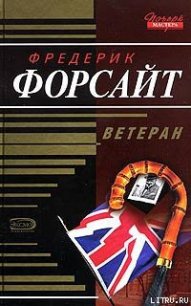Экзамен - Сотник Леонид Андреевич (книги бесплатно читать без txt) 📗
Тучи контрреволюции, как тогда говорили, сгущались над Астраханью, но их не замечал и не мог заметить ученик реального училища Миша Рябинин, и даже сегодня на закате, когда пушки принялись бить по причалам и по каналу, рассекшему, словно сабля, город на две части, Миша вов^е не думал об опасности, грозящей революции. Засучив до колен старенькие чесучовые брюки, надвинув по самые брови соломенную шляпу, он сидел, свесив ноги, на рассохшемся перевёрнутом баркасе и любовался пенными фонтанами, мечтая о том, как опишет он их в своём первосентябрьском сочинении.
Размечтавшись, он даже не услышал, как за спиной у него заскрипел песок. Потом кто-то не очень вежливо хлопнул его ладонью по спине и громко засопел в затылок. Миша обернулся. Перед ним стоял соседский Колька Портюшин, выставив худые-прехудые мослы сквозь дыры рваной ситцевой рубахи, — стоял и рассматривал его, подозрительно щуря зелёные глаза.
— Милуешься? — спросил он, усаживаясь рядом и поджимая ноги калачиком. Грязные, все в цыпках пальцы почти касались подбородка. — Милуешься, спрашиваю?
Миша неопределённо пожал плечами. Его досадовало появление Кольки.
— «Так не спугни очарованье…» — тихонько пропел он себе под нос, даже не глядя в сторону мальчишки. — Вечно тебя, Колька, приносит не тогда, когда нужно. Я не милуюсь, как смеешь ты утверждать, а общаюсь с природой. Тебе это понятно?
Колька засопел, сморщил свой веснушчатый нос и, уловив краем скошенного глаза ещё один белый столб, взметнувшийся над водой, сказал с какой-то грустной отрешённостью:
— Здорово бьёт, ирод. — Потом подумал немного и прибавил: — Так он всех наших перемолотит.
Мише не хотелось спрашивать, кто такой этот ирод и кого он перемолотит. Миша и Колька были ровесниками, но Миша закончил шесть классов реального училища, в то время как Колька не одолел даже церковноприходскую школу, а потому обсуждать с Колькой серьёзные вопросы он считал ниже своего достоинства.
— Я говорю, перемолотит наших, — повторил Колька и выжидательно посмотрел на Мишу.
Рябинин отряхнул песок, прилипший к брюкам, ленивым жестом поправил сползшую на лоб шляпу и спросил, наконец, с небрежным превосходством:
— Кого это перебьют? По-моему, никто и никого бить не собирается. Мне кажется, что это просто красиво.
— Что красиво? — ошалело спросил Колька.
— Эти фонтаны, стрельба и вообще… Хотя ты, Колька, насколько я знаю, абсолютно лишён способности воспринимать мир через призму эстетики. Да, кстати, кто это бьёт?
— Не знаешь, что ли? Сидишь тут, дурачка из себя корчишь. А ты не корчь. Небось дожидаешься? Все буржуи дожидаются…
Колька сыпал нервной скороговоркой, и Миша почувствовал, что он чем-то взвинчен, озлоблен, а может быть, даже напуган.
— Не тарахти, скажи толком: кто бьёт?
— Известно кто, Маркевич.
— Какой ещё Маркевич?
— Известно какой, генерал.
— А зачем он это… У него что, снаряды лишние?
— Известно зачем. И снаряды у него не лишние. Это он Совет хочет порушить.
— А ты почём знаешь?
— Уж знаю. Батя с порта прибег, при винтовке опять— таки. Щей похлебал наскоро и мамке: «Ты меня, старая, не жди к ночи. Тут дело такое: Маркевич попёр». Мамка, конечно, в слёзы, а он ей: «Не реви. Зачнём реветь, так и мятеж не удушим. А ежели не удушим, тогда и Советской власти, и нам, рабочим, крышка». А Маркевич — царский генерал, дружок атамана Дутова. Бают, он офицерья к городу со всей Астраханской губернии постаскивал. Но ничего, — заключил Колька, — мы всё равно отобьёмся.
— От генерала?
— А что? От генерала. Он хочь и генерал, а тятька сказывал, что в Питере рабочие ещё и не таким генералам чёсу давали. Царь ведь — он поважнее генерала был? А где он, твой царь?
— Ну, знаешь, Колька, — обиделся Рябинин, — ты мне царя в родственники не суй. Мой папа всегда говорил, что мы из приличной семьи.
— Маркевич тоже из приличной, а вот листки его людишки по городу разбросали, так там написано, что он всех совдепщиков на столбах перевешает. Тебе-то, конечно, всё это без интересу: вас, буржуев, не тронут.
— Нашёл буржуев! — фыркнул Рябинин. — Ты знаешь, кто мы с папой? То-то же. Мы с папой — пролетарии умственного труда.
— Гы-гы, — развеселился Колька, — в пролетарии его потянуло. Да ты на себя погляди. Рубашка-то на тебе белая, штаны-то на тебе чучунчовые, а шляпа хоть и из соломы, а всё равно буржуйского форсу. А теперь гляди на меня. — Колька спрыгнул с баркаса, чтобы Мише было удобнее его разглядывать. — Так вот: штаны на мне когда-то были полотняные, а теперь, как говорит мамка, сам леший не разберёт, из чего они пошиты. К тому же одной штанины от колена не хватает. Рубаха у меня — во. Одни дырья. А шляпы да штиблетов и вовсе нету. Теперь понял, каким должен быть настоящий пролетарий?
— А отец у тебя не настоящий? — сощурился Миша. — Ведь в коже весь ходит, а кожа тоже денег стоит.
Колька засмущался, но сдаваться не хотел:
— Так кожу ему революция выдала. Склад у купца Сиротина кофинс… кофиисковали, одним словом, вот отцу и отвалили малость.
— Эх, Коля, пролетарское дитя, — Рябинин покровительственно похлопал мальчишку по плечу. — Ничего-то ты ни в генералах, ни в пролетариях не понимаешь.
— Уж я — то понимаю, — нахмурился Колька, — тебе бы понять пора. И папане твоему тоже. Мой тятька так говорит: мир сейчас надвое раскололся. Одни за буржуев стоят, другие — за рабочих, а кто против рабочих — тот контра.
— Он у тебя что, большевик?
— Большевик.
— А мы в партии не записывались. Но мы тоже за рабочих.
И тут Миша поймал себя на мысли, что ему изменил покровительственный тон, что в неуклюжих словах Кольки есть какая-то правда, которую ему, Мише, постичь пока не удалось. И он сказал уже совсем миролюбиво:
— Ты не ершись напрасно, Колька. Ты же знаешь, что моему папе буржуи бойкот объявили. В училище денег не платят, и жить нам не на что…
— Тогда Даниил Аркадьевич пусть в Красную гвардию идёт, — дёрнул плечом Колька, — как мой тятька. Или в Совет. Тятька сказывал, что там сейчас шибко грамотные люди нужны.
— Не знаю, может быть, и пойдёт, — сказал Миша в раздумье. — А нам с тобой по домам пора. Завтра на речку двинем?
Колька укоризненно пожал плечами и дёрнул ремень сползающих штанов.
Солнце село. Орудийная стрельба утихла. Зато чаще стали греметь винтовочные выстрелы, а где-то там, возле кремля, захлёбываясь, скороговоркой частил пулемёт.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Астрахань. Уроки персидского
— А у нас гость! — крикнул Даниил Аркадьевич из залы, едва Миша переступил порог.
Миша прошёлся любопытным взглядом по небогатому убранству передней и тут же заметил на вешалке полосатый стёганый халат и палку с набалдашником из слоновой кости, прислонённую к спинке стула.
— Абдурахман Салимович?
Отец вышел сыну навстречу, с улыбкой кивнул головой. Обняв Мишу за плечи, он слегка подтолкнул его к двери в гостиную:
— Иди, иди, он тебя с обеда ждёт.
За столом, накрытым огромной клетчатой скатертью с кистями, возле надраенного до блеска медного самовара с тремя медалями сидел перс Абдурахман Салимович. В белой чалме, большой и высокой, словно кочан промёрзшей капусты, в белом хлопчатобумажном халате и таких же белых широких штанах особого, «просторного» покроя, с орлиным, чуть крючковатым носом и чёрной от уха до уха окладистой бородой, он показался Мише сказочным персонажем, пришедшим в их маленький домик из «Тысячи и одной ночи».
С Абдурахманом Салимовичем, а точнее, с купцом из Ирана Абдурахманом ибн-Салимом аль-Мешхеди Рябинины были знакомы давно, уже лет семь или восемь, и всё же Миша никак не мог привыкнуть к его необычному виду, хотя на астраханских базарах фигура восточного купца считалась явлением довольно-таки обыденным. Бухарцы, хивинцы, самаркандцы, мешхедцы, кашгарцы держали в Астрахани свои лавки и караван-сараи, вели торговлю сушёным урюком и кишмишем, благовониями и парчовыми тканями, хлопком и хлопковым маслом. Были эти люди шумные и крикливые, не всегда чистые на руку, мелочные в делах торговых и жадные до всякой наживы. Большинство из них едва ли умело поставить на казённой бумаге, разрешающей торговлю, несколько арабских закорючек, изображающих имя купца. И чем больше наблюдал за ними Миша, тем скорее таяли в его душе покровы таинственности и очарования, в которые он облачал сказочно-книжный Восток. Но не таким был Абдурахман ибн-Салим. Он прекрасно владел русским и английским, остроумно рассуждал о прозе Киплинга, а уж что касается литературы на фарси, то тут, как считал Даниил Аркадьевич, равных ему не было не то что в Астрахани, но, пожалуй, даже в самом Иране.