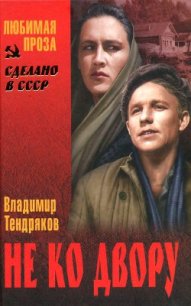Ночь после выпуска (сборник) - Тендряков Владимир Федорович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
И я должен был избегать встреч с родителями учениц, уже вошедших в пору любовных томлений и подходящих к оной.
А домой наведывались любопытствующие и беспардонные соседи, прикрывающиеся маской сочувствия и доброжелательности, норовили решить со мной всепланетный вопрос о нравственном падении в наш суетный и греховный век.
Жена, и в покойное-то время постоянно ожидавшая беды, теперь валялась с примочками и припарками. Удушливо пахло лекарствами.
Выпроводив, соседей, закрывшись, забаррикадировавшись, я, недостойный воспитатель, недостойный отец, наступал на дочь:
– Кто он?
В подурневшее, опухшее от слез, пятнисто-красное лицо:
– Кто он, развратная девка?
И деревянное молчание, и мертвенное равнодушие опухшего лица, и взгляд в сторону затравленных красных глаз. Безобразна и бесчувственна – ни слова в ответ.
Бронзоволосое чудо! Прозрачная молочность кожи, ясная голубизна глаз, неистощимый родник радости… Все, что было, обман. Истинный вид, вот он – безобразна, бесчувственна.
Кто?.. Он неожиданно сам явился ко мне на дом. Крутые плечи, боксерская прическа, до зелени бледное лицо, увиливающий взгляд.
– Я люблю ее. Мы любим… – бессвязная сентиментальная дребедень, взятая напрокат из душеспасительных романов, готов, видите ли, жениться, «благословите, батюшка»!
Учитель физкультуры! Новый удар в спину. Если бы ученик, то к прежнему позору не прибыло бы – моральное разложение как было, так и есть, только до конца выявлено. Но учитель!..
Я представил, каким кипящим фонтаном забрызжет на меня наша директриса. Под ее ногами загорится земля: морально разложились в школе не только ученики, но и учителя! Директриса постарается выскочить из пламени, сунуть туда меня.
Готов жениться, великовозрастный дурак! Готов, будто не знает, что это вопреки законам, писаным и неписаным. Невесте же всего шестнадцать, ни один загс не оформит брака. Готов – ишь ты, самоотверженность! И увиливающий взгляд, и губы дрожат – знает, кошка блудливая, чье мясо съела, пока не поздно, пришел с повинной.
– Я люблю ее… Мы любим…
Этому Казанове с боксерской прической повезло. С общего согласия роно, директрисы, да и меня тоже решено было не раздувать сыр-бор, а потому Казанову уволили с преподавания физкультуры с нелестной, но, однако, не убийственной формулировкой, предложили исчезнуть из возрождающегося города Карасина. И он поспешно и охотно это сделал.
– Я люблю… Мы любим…
Где уж. С тех пор от него ни звука.
Я сам настаивал, чтоб Веру исключили из школы. Да и как иначе? Могла ли она снова сесть за парту? Ученики глядели бы на нее, как на воплощенную непристойность, презрительно и вожделенно. Я же должен был как-то показать, что не мирволю, наоборот, резко осуждаю поведение беспутной дочери. «На том стою и не могу иначе!»
Не мог, да, признаться, и не хотел. Родник счастья… Как я ее любил! В душу плюнула… Я перестал разговаривать с дочерью.
Ребенок прожил два месяца и умер. Вера устроилась учетчицей на автобазу.
Я мечтал о педагогической династии Ечевиных. Одна дочь у меня домашняя хозяйка, другая мне вопреки врач… Автобаза при строительном управлении – грубый мир шоферни, сердитые, с площадным фольклором споры о простоях, постоянно всплывающие истории о «левых» ездках, о махинациях со стройматериалами.
А когда-то она читала Плутарха из моей библиотеки, знала наизусть куски из «Илиады».
Жена снова лежала с примочками, снова в наших стенах едко пахло нашатырным спиртом. Вера не только устроилась на работу, но и получила койку в барачном общежитии. Рыженькая девочка с молочной шейкой…
Десять лет прошло с тех пор. Был ли в этом десятилетии день, не отравленный судьбой Веры?..
Не советуясь ни с кем, она вышла замуж. Муж, шофер, которого милиция эпизодически лишала права садиться за руль, ее бил. И ко всему у них появился сын…
Неудачи Веры никогда не были только ее собственностью, всегда перекидывались под крышу родного дома. Заразно несчастна!
Вера частенько навещала мать, старалась делать это, когда я был в школе. В последнее время, похоже, дочь стала приходить не только к матери.
Вот и сейчас… Гладко зачесанные назад волосы стянуты в узелок на затылке, и кажется, кожа лица так туго натянута, что проступают все кости, ни дать ни взять изнуренная страданиями за весь род людской Богородица.
И скользящий мимо меня взгляд. И робкий взгляд жены: «Ради бога, Коля!»
– Налить?.. – со вздохом, словно с места на место перевалила тяжкую глыбу, спросила жена.
– Налей.
– Отец!.. – неожиданно с чистым звоном в голосе произнесла Вера.
Полная рука жены, протянувшаяся за чашкой, дрогнула.
– Отец! Ты кругом меня обворовал, не воруй последнее.
– Верочка… Ну что я тебе говорила?
– Мама, ты все уступаешь, а я уж к стенке прижата, отступать мне некуда.
Куда девалась непробиваемая пустота в глазах – сухие, синие, горячие, и лицо медное, чеканное. Не смиренница – страстотерпица, от такой покорности не жди.
– Я тебя обворовал? – спросил я. – Может, признаешься: сама себя раба бьет.
– За свое я сполна ответила. Не бей лежачую!
– Ох, Вера, Вера, сук под собой рубишь, – пробормотала мать.
Между нами назрела война. Нам крайне нужно поговорить без крика, без слез. Я хочу глядеть ей в глаза, я хочу слышать ее возражения.
В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое.
Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую.
Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама и что души праведников не уносятся в небо.
В городе Карасине было два Дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще где-то в тридцатом при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны.
Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться – накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи: баптисты собираются и пляшут нагие… Нет, они от военной службы отказываются…
Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих, показывал себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто – молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители города постепенно потеряли к ним интерес, хотя для нормального карасинца баптист все равно оставался темной лошадкой – если он и не пляшет нагишом на сборищах, то все равно живет не по-людски и думает «не по-нашенски», свихнувшийся.
Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жена горького пьяницы, руганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости: «Люби ближнего своего» и «Бог есть любовь!».
За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность карасинские баптисты выбрали ее своей старшей, пресвитером – на их языке.
А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О Вере узнали все, узнали тогда и мы с женой.
Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову…
Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом.
Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом. В пьяном виде усиленно убеждал: «Бога нет, сука!»
Но у Веры сын, мой внук…