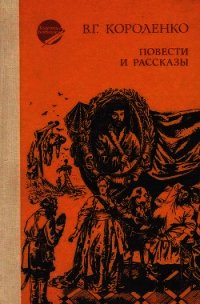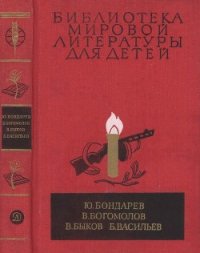Библиотека мировой литературы для детей, т. 14 - Короленко Владимир Галактионович (читаем книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну.
Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.
— Садись в греби, Евстигней!
— Да у тебя еще есть ли греби-то? — сомневается тот.
— Поговори со мной!
На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.
— Проходящий, лезь и ты… в тую ж фигуру.
Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.
Паром начинает как-то вздрагивать… Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» [91] дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.
— Вались на перевал, Иванко, вали-ись на перевал! — быстро сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.
Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.
— Крепи! — командует Тюлин.
Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.
Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.
— Эх, парень, — говорит он, мотая головой, — кабы на тебя да не винище — цены бы не было. Винище тебя обманыват…
Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.
— Греби, греби… Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.
Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, — мостки давно затопило, — то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «негодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.
Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.
— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду, — советует Тюлин, несколько оживляясь.
Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.
— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.
— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.
Баба сидит, как изваяние.
— Ну? — недоумевает и Тюлин. — А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.
— И то… вишь, кака крутоярина.
— Чё-ино! Самая така круча, что ей бы сломаться надо… Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. — Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!
Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи», — мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом.
— Проси с Тюлина косушку, — говорит полушутя Евстигней.
Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:
— Причалим — подвесу… И не одну, слышь, поднесу, — добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то во всяком случае мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.
А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.
— Едут… — скорбно говорит перевозчик.
— Да еще, может быть, не поедут, — утешаю я, — может быть, у них не важное дело.
Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой…
Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:
— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? Голову всеё разломило…
Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую согласно предсказанию знатока-перевозчика унесло-таки течением.
— Что, Тюлин, здоров ли?
— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.
— Зачем?
— Вишь, склёка [92] вышла. Плоты Ивахински река разметывать хочет.
— Тебе-то что же?.. Разве забота?
— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься…
К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки [93], в руке сверкала посудина с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:
— Что, приплескиват?
— Беды! — ответил Тюлин. — Чай, сам видишь.
— А плотишки у меня поняла уж?
— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, — в силу, в силу бегом догнал за перелеском…
— Ну?
— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.
— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. — Не оглянешься, — плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.
— Чего бы я напрасно лаял православных, — заступился за своих Тюлин. — Чай, у вас ряда была…
— Была.
— На песок возить?
— То — то на песок.
— Ну-к на песке и есть, не в другим месте.
— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!
— Как не покрыть, — покроет. К утру, что есть, следу не оставит.