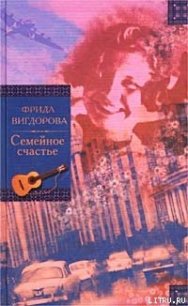Черниговка - Вигдорова Фрида Абрамовна (прочитать книгу TXT) 📗
– Из дому, – говорю.
– А где ваша семья?
– Сейчас наш дом на Урале.
– Дом?
– Ну да. Я в детдоме воспитывался.
И она так участливо:
– В детдоме?
Вот всегда люди услышат, что в детдоме, сочувствуют. Мне сразу захотелось рассказать ей про Черешенки. И я вдруг почувствовал, что могу говорить легко. Обыкновенно я запинаюсь и заикаюсь, как только она обратится ко мне, я сам-то первый редко заговариваю. А она услыхала про Семена Афанасьевича и говорит заведующей своей, лейтенанту Прониной:
– Вы только подумайте, Крещук воспитывался у Карабанова! Помните, у Макаренко?
Тут эта Пронина все бросила и кинулась ко мне как тигр. Баба все-таки остается бабой, будь она хоть трижды культурная. Вся работа в библиотеке прекратилась, и они обступили меня, как будто я артист.
– Настоящий живой Карабанов? Не может быть? А Макаренко вы лично знали? А черниговка на самом деле есть.
Как мало, как плохо я рассказал – даже обидно. А как много можно было рассказать! Может, я и расскажу ей когда-нибудь. Расскажу! Люди и вправду сочувствуют, когда слышат, что человек вырос в детдоме. А мы всегда гордились своим домом. С. А. вел дело так, что мы не какие-нибудь обделенные, а, наоборот, самые лучшие, самые счастливые, и другие ребята должны еще завидовать, как мы живем, и мы всегда так считали, и нам и вправду было веселее и интереснее, чем всем деревенским ребятам вокруг.
Ненавижу преклонение перед известными людьми. Хотя и сам хочу прославиться. И получить, например, Героя. Все-таки совсем другой вид, когда входишь в библиотеку со звездочкой.
Одна беда, это моя постоянная беда: ревность. Если у человека есть личные родители, ему, наверно, с точки зрения ревности, легче. Кроме, конечно, меня. Я ведь ничего не забыл. Люди умирают от пуль. Люди умирают за работой. А я, наверно, умру от ревности. Я и Г. К. ревновал, стыдно сказать – ревновал ко всем ребятам. А иногда я думаю: есть такой человек, что все отдает, а тебе мало – не хватает. А есть такой, что у него много таких, как ты. А у него хватает на всех. Вот она такая. Помню, когда должен был родиться Тосик, Леночка ей сказала:
– Ты будешь его больше любить, чем меня?
– Почему ты так думаешь?
– Раньше ты любила одну меня, а теперь поделишь.
Г. К. сказала:
– Глупая, разве любовь делится? С каждым новым ребенком рождается новая любовь!
Вот как она сказала. И в самом деле, вроде каждого из нас она любила по-разному. Даже самого распаршивого, например Якушева. И вроде, конечно, хватало. А все-таки лучше, если б я был у нее один. Ну, еще Егорка, Лира и Катаев. И Король. И всё. А меня чтоб все равно любила бы больше. Хотя они все лучше меня. Но это неважно.
И вот еще насчет ревности. Раз я спросил у С. А.:
– Вы ревнивый?
Он мне ответил:
– Да я даже петуха неревнивого не видал. А голубь? Кроткая птица, а как дерется – кровь брызжет, перья летят! Гм… Ревнивый ли я!
Тогда я спросил:
– А Антона Семеновича вы ревновали?
Он ответил:
– А как же, ясно!
– А он что?
– Плевать он хотел на мою ревность.
Очень мне хотелось спросить насчет Г. К. – ревновал ли он ее. Но постеснялся тогда. А жаль… Сейчас отсюда уж не спросишь. А мне так надо знать. И как же быть? Как мне быть если я могу свернуть голову каждому, кто входит в библиотеку.
Полк Лиры посадили на наш аэродром. Так что надобность напрашиваться в делегаты отпала. Теперь в свободное время ходим втроем. Думали написать Г. К. коллективное письмо. Сидели, сочиняли. Что-то не получается. Решили по-старому, каждый сам.
Встретил Нину на мосту. И вдруг ясно понял, что она все обо мне знает. Когда я подошёл, она забыла сказать «здравствуйте», а в глазах какой-то испуг, сострадание. Щеки впалые, из-под платка выбиваются светлые волосы. И я вдруг подумал, что она некрасивая. Но мне уже все равно – красивая или нет. Разве в этом дело? Я ее остановил на мосту, хотя она торопилась и была, наверное, голодная, усталая. Взял ее руку и молчал. От раскаяния молчал. От раскаяния, что я завтра уже не буду здесь, а ничего о ней не спросил, ничего о ней не знаю. Почему она приехала в Полярный, к брату? Может, у нее погибли мать, отец? Как доехала сюда? Лицо у нее измученное. Может, ей помочь надо было – ну, например, вместо нее за хлебом сбегать или пол в квартире вымыть, я ведь хорошо полы мою. Да мало ли чего, разве сразу придумаешь? А я был занят, я подсчитывал, кто к ней подходит за книжками. И собой занят, своими переживаниями. Она сказала:
– Ну что, Федя, так и будем стоять и людей смешить?
– Да, да, Нина Алексеевна, а может, вам чего-нибудь поднести?
– Да что же нести, у меня только сумка.
И правда, у нее в руках была только сумочка. Я проводил ее до дверей. Она сказала:
– Ну что, Федя, сумку-то вы мне отдадите?
И вдруг я еще крепче, изо всех сил вцепился в эту сумку, закрыл глаза и прижал ее к лицу. Кто-то спускался с лестницы, и я опомнился. Какое доброе, какое грустное у Нины лицо. Бывает же такая красота.
Мне хотелось сказать: «Я люблю вас». Но я не мог, потому что мне горло перехватило. Побежал вниз. Стал толкать дверь, а она открывается на себя.
– Нина Алексеевна, Нина Алексеевна, а у меня завтра вылет! – вот только это и сказал. Только и всего.
Опять пишу. Второй раз за этот день. И не могу не писать. И даже радость какая-то, что эта тетрадка остается и будет ждать меня. Может, дневник – это как животное, его особенно любят замкнутые, потому что можно не стесняться.
Раздался стук в дверь. Ясное дело, я сказал: «Войдите!» – я вошел – этого и вообразить себе нельзя, кто – Михайлов, а с ним Нина. У Михайлова был такой голос, как будто он заранее постановил, что будет много говорить, чтоб не дать мне опомниться. А Нина сказала:
– А мы пришли к вам пить чай со своим пирогом, – и положила на стол пирог, завернутый в салфетку.
Это был самый счастливый вечер мой в Полярном. Похоже было на семью. И Нина чай разливала. Но я боялся на нее смотреть.
Пришел Колька, стал разговаривать с Михайловым, Нина вышла первая, я за ней. На дворе ночь – белым-бело, как днем, только без солнца. Мы шли по дороге, и хрустел снег. Вот и все.
Вот сейчас я отложил на минуту перо, и мне почему-то представился костер. И мы сидим с Ниной у огня. Она кипятит чай. А я ее уже не боюсь. И рядом пусть Егорка. А как Егорка будет ее называть? Просто Ниной? Или, допустим, как? Егорка! Два дня я о тебе почти не думал. То есть думал, конечно, но думал так: ты, вроде того, подожди, подожди. Сейчас вот в это самое главное, а потом поговорим.
Как хорошо жить на свете! Когда я вижу ее – нет счастливее меня человека!..»
Дальше шли чистые, неисписанные страницы. Я закрыла тетрадь. Долго сидела, не зажигая огня. Потом меня позвали вниз. Я читала ребятам Гайдара, потом, когда они легли, еще долго проверяла счета.
Возвращалась домой поздно. У калитки услышала запах яблони. «Утешить человека может мелочь…» Нет, человека не легко утешить. Когда-то давно я посадила в память Костика яблоню. Цветущая яблоня – это был Костик, это был воскресший Федя. Больше нет ни Костика, ни Феди. Тогда зачем же цветет яблоня?
Только сейчас, только сегодня, прочитав этот полный жизни дневник, я до конца поняла: Феди больше нет.
– Причешись, – сказала Наташа. – Пришей пуговицу. Хорошо бы еще рубашку выгладить.
Сеня слушает ее, не говоря ни слова. Сегодня мы встречаем Настю. До реки ее обещал довезти ожгихинский председатель, а через реку на лодке переправит Андрей.
– Идем, горе мое, выглажу тебе рубашку.
Сеня повинуется, идет за Наташей.
– Я вижу, ее у вас любят, эту Настю, – нараспев говорит Тёма Сараджев. – А чем она такая хорошая?
Вот на этот вопрос я не взялась бы ответить: как тут скажешь – чем хорошая? Когда я думаю о Насте, я вижу ее. Вижу маленькую, робкую. Такую, какой она пришла в Черешенки. Вижу и большую девочку – ласковую, с прямым, глубоким взглядом. Мне становится надежно и покойно, когда я о ней думаю. Это Тёма и сам поймет, когда увидит Настю. А словами – словами не расскажешь.