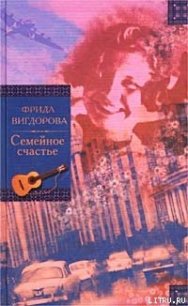Любимая улица - Вигдорова Фрида Абрамовна (электронные книги без регистрации .txt) 📗
— Я хочу, чтобы вы поняли и не винили меня, — говорит этот Коля, — ему все равно было бы плохо. Ведь не я же это начал, меня только спросили, и я вынужден был подтвердить. И лучше, что это сделал я, чем кто-нибудь другой. Другой бы его совсем загубил.
— Я уже не раз слышала, как люди оправдывают себя таким образом. А почему не сказать прямо, что все это выдумка и клевета?
— Я пытался. Но он сам портит все дело. Он не желает давать никаких объяснений. Я бы очень хотел быть ему полезным.
— Коля, ну что вы мечетесь? Подите и скажите, что все это не правда.
— Вы думаете, ему от этого будет лучше?
— Да не о нем я сейчас. Вам, вам будет лучше.
— Таня, мне уже никогда не будет лучше. Я совсем запутался. И вы почему-то совсем не хотите меня понять. Я хочу, чтобы вы поняли: я тут ни при чем. Выплыло то, что он говорил в частных разговорах. Он говорил, например, что погоня за приоритетом — это постыдно. Уже одного этого достаточно, чтобы…
Про кого это он говорит? — думает Катя. — Приоритет… Приоритет… Что это такое? Может, имя? Непохоже вроде. Хотя есть же книжка «Алитет уходит в горы». Может, и Приоритет уходит в горы. Это такой мальчик. Его дома обижали, и он убежал в горы. Родители заявили в милицию, за ним погоня… Нет, наверно, приоритет — это что-нибудь другое. Что-нибудь научное.
Как странно этот Коля разговаривает: как будто оправдывается или стесняется. А чего он стесняется? И почему он Кате так не нравится? Вот он уйдет, и Катя спросит у Татьяны Сергеевны — плохой он или хороший? Катя очень часто думает — может умный человек быть плохим или не может? Ведь умный должен все понимать про добро и про зло, как же он может быть плохим? И Катя думает так: все умные — непременно хорошие. А тетя Анися говорит: «Бывает, злое дело выгоднее. Есть такие умники, понимают это».
Катя скашивает глаза и смотрит на Колю. Лицо у него растерянное и темное какое-то…
— Коля, вы все это уже много раз говорили мне. Раз двадцать, наверно. И я вам тупо повторяла, что, как ни странно, во всей этой истории мне жаль вас, а не его. Вы мечетесь из стороны в сторону и не можете найти выхода. А выход только один. Трудный, но единственный. И никто вам помочь не может, только вы сами…
— Таня, но все должно иметь смысл. А в этом нет никакого смысла. Если я попытаюсь его защищать, я только загублю себя…
Ой, — вдруг думает Катя, — да ведь он боится Татьяну Сергеевну. Ни одна девочка в классе не боится ее, а он боится.
Куда это они идут? А, к Татьяне Сергеевне. Надо будет позвонить домой, а то все начнут беспокоиться. Если Катя вовремя не приходит, все беспокоятся. А когда она приходит, никому до нее нет дела. «Поди на кухню и поумней там», — говорит папа. «Отстань, балаболка!» — говорит.
Они говорят: «Замолчи!» Одна мама разговаривает с Катей, но радости от этого никакой: мама разговаривает, а сама о чем-то думает. А Катя этого терпеть не может. Она любит, чтобы мама, когда разговаривает с ней, думала только про нее и больше ни про кого.
Ну вот и пришли. Сейчас Татьяна Сергеевна скажет: «Заходите, Коля. Я угощу вас чаем».
Но нет. Она говорит не так:
— Боюсь, что все мои советы вам ни к чему. И напрасно я вас жалела. Вас надо бояться, а не жалеть. Прощайте, Коля.
Он поворачивается и уходит.
Прощайте… Сколько есть на свете прощальных слов, — думает Катя, — «до свиданья… прощайте… всего хорошего… будьте здоровы… счастливо оставаться…»
Мела метель. Будто напоследок зима решила взять свое. С неба без устали валил и валил густой снег. У фонарей на свету видишь, как снег кружит и пляшет, но сразу же за фонарем он сыплет не кружась, не танцуя, сплошной тучей, обрушивается на деревья, на тротуары и пешеходов. А Леша не замечает ничего: ни снега, ни ветра. Он идет и думает только об одном: как он расскажет об этом дома. Его отчислили из академии. Его ушлют. Наверно, на Курилы. Он поедет, и ему на все наплевать. Но как он расскажет обо всем этом дома? Отец и мать так радовались, когда он поступил в академию. Вернулся с войны, жив, здоров. И вот кончит академию, будет инженером. «Леша такой способный, — слышит он голос матери: — Он так отлично учится. Не исключено, что его оставят в адъюнктуре, у него большой боевой опыт». Все это она рассказывала своим сослуживцам, и на кухне, и когда сидела, отдыхая, во дворе на скамейке под обуглившимся каштаном. Его так и не срубили, этот каштан. А отец говорил: «Леша у нас молодец. Очень хорошая голова на плечах. Будет научным работником, я уверен».
И вот он должен сказать им, что не кончит академии. Что его отчислили за роман с Гертрудой Гессе. Мать заплачет. Леша даже остановился, когда подумал об этом. А отец будет говорить, стараясь, чтоб не дрожали губы: «Сынок, надо написать куда-нибудь. Обжаловать. Это несправедливо».
Леша поедет на Курилы не моргнув глазом. Но родителей жалко так, что кажется, будто кто-то схватил его за глотку и стиснул, не отпускает. Правду говорит Саша, жалость — самое мучительное чувство. Жалеешь, только когда ничем не можешь помочь. Вот и сейчас: чем им поможешь?
Пойду к Саше, расскажу ей. Нет, не пойду. Ей самой плохо сейчас. Что-то у нее не ладится. Вчера он спросил: «Что с тобой?» А она: «Очень устала. Смертельно. В больнице только и слышишь эту несусветную чушь: „Сестрица, это лекарство не отравленное? Сестрица, а правда, что в некоторых больницах прививают больным рак? А в нашей больнице не прививают?“»
Он ей все скажет завтра. Он хочет пойти к Саше потому, что ему плохо. Он хочет, чтоб она ему помогла. А ей самой худо. Он хочет пойти к Поливановым потому, что не может, не может, не может вернуться домой. Не может войти в комнату и сказать: «Меня отчислили».
Не может увидеть, как задрожат у отца губы.
А мама? Нет. Сегодня он ничего им не скажет. У него не хватит мужества нанести им такой удар. Завтра. Утро вечера мудренее. А что он будет делать сейчас? Он уже давно не шел по Ленинградскому шоссе к Белорусскому вокзалу. Он давно уже повернул назад. Ну и что же? Он пойдет и простится. Попрощается. Он был груб тогда, в их последнюю встречу. Сейчас он зайдет, попросит извинить за тот разговор и уйдет. И ничего нет странного в этом желании. Домой он вернуться не может, вот и все, что он знает.
Она сама открыла ему дверь. Она не удивилась, увидев его. Отвела прядь волос со лба и сказала:
— Что же вы стоите, Алеша? Заходите скорее, снег!
Он зашел. Совсем как тогда, топилась печка, и на маленьком, почти игрушечном письменном столе лежали детские тетради.
— Вы замерзли, наверно? — говорила Таня. — Грейтесь, Алеша, а я вскипячу чай и сварю пельмени. Вы любите пельмени?
Это было милосердно, что она не сказала: «Зачем вы пришли?» Или еще что-нибудь в этом роде. Она сказала: «Грейтесь». И еще сказала: «Вы любите пельмени?» И он ответил: «Люблю».
Он подошел к письменному столу и отыскал Катину тетрадку. «Тетрадь для сочинения ученицы 3 „В“ класса Кати Поливановой». Сочинение называлось «Весна». И начиналось оно такими словами: «Весна — понятие растяжимое». Он невольно улыбнулся. Ему вдруг чуть полегчало. Он сел у печки, приотворил дверцу и стал глядеть в огонь. Какое веселье царило там, в глубине. Какие города вырастали и рушились. Как металось, взлетало и падало пламя как наливались прозрачным золотом угли. Вот так бы и сидеть здесь целый век. И ни о чем не думать.
Из кухни вернулась Таня. Он услышал скрип двери и легкие шаги. Он повернул голову. Она стояла и смотрела на него печально и вопросительно. Он снова отвернулся.
— Садитесь, Алеша. Чай на столе.
Он молчал, она не повторила своей просьбы.
— Меня отчислили из академии, — сказал Леша. Она молчала.
— Я уезжаю. Наверно, на Курилы, — сказал Леша.
— А я? — услышал он.
— Что?
— А я? — повторила Таня.
Саша жила так, как велел день. Утром вставала и шла на работу. Возвращалась домой, была с детьми. Готовилась к экзаменам в медицинский институт. Потом, не дождавшись Мити, ложилась. Он приходил поздно. «Я сегодня дежурю», — бросал он на ходу. Или звонил по телефону: «Я сегодня „свежая голова“, я не приду». Саша знала: «свежая голова» — это тот, кто смотрит только что сверстанный номер, последний проверяет — нет ли ошибки? Прежде он добавлял: «Спокойной ночи, Сашенька» сейчас он говорил просто: «Я не приду». А иногда ничего не объяснял: «я не приду» — и только.