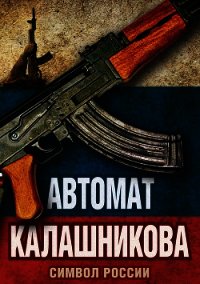Дети Солнцевых - Кондрашова Елизавета (лучшие книги txt) 📗
— А вот это вашей прошлогодней знакомке, маленькой Ниське, — продолжала Марина Федоровна, держа в руке кофточку. — Кто хочет шить ее? — спросила она, улыбаясь. — Ниська уж ходит. Я ее видела недавно, такая хорошенькая, чистенькая. Мать ее оправилась, отец вышел из больницы и поступает на старое место. Скоро, Бог даст, и сама мать будет в состоянии обшивать свою девочку, а теперь еще мы к Светлому празднику приоденем ее. Мать этой девочки говорит мне: «Каждый день, сударыня, как одеваю свою Ниську, прошу Господа, чтобы Он благословил те ручки, которые одели ее».
Девочки слушали Марину Федоровну, и каждая из них выбирала своего protege [110], и каждая старалась достать что-нибудь еще в пользу своего любимца. Многие приносили каждую неделю часть полученного из дома гостинца, говоря: «Леденцы не портятся, изюм тоже, пряники немножко зачерствеют, но это ничего, все равно вкусно…»
Рабочая корзина, в которую складывались готовые вещи, наполнялась с каждым днем. На пятой неделе поста она была уже полна, на шестой — полна через край.
В Вербное воскресенье, когда девочки собирались идти в комнату Марины Федоровны, чтобы заняться окончанием начатых работ, она сказала им:
— Сегодня, дети, мы не работаем. Завтра вы начинаете говеть. Вам надо немного заняться собой, проверить себя, припомнить, как вы провели этот год, что имеете на душе, посчитаться с собой. Словом, советую вам взять ваши дневники и просмотреть их. Те, что поленились писать в течение года, а также которые не писали и в прежние годы, пусть попробуют записать хоть в общих чертах все пережитое ими. Это тоже будет не без пользы.
Воспитанницы что-то зашептали. Послышались недовольные голоса.
— Чего вы хотите? Я не понимаю! Говорите громче, — сказала Марина Федоровна.
— Я не могу писать, Марина Федоровна, право. Пробовала несколько раз, такая чушь выходит, что читать совестно, — призналась полная красивая девочка, Инна Гурович.
— Жаль, мой друг. Ты вообще не отличаешься умением выражать свои мысли, даже письма домой, кажется, не без помощи чьей-нибудь пишешь. Тебе бы это было очень полезно, хоть бы для практики.
— Если бы было что записывать! — воскликнула другая девочка.
— Неужто так-таки совсем нечего? — спросила с сомнением, но ласково Марина Федоровна.
— Право, Марина Федоровна, нечего, — поторопилась ответить Инна Гурович. — Уж так хорошо знаешь все, что есть, и что завтра будет, что записывать как-то неохота.
— Это твое дело, то есть вообще ваше, — поправилась Марина Федоровна, обращаясь к классу. — Я ведь и не настаиваю, а только советую вам записывать ваши впечатления, зная по собственному опыту, какое огромное удовольствие, даже умиление испытывает человек, когда впоследствии, через много лет, просматривая свой дневник, может проследить всю свою жизнь с детства, может видеть шаг за шагом, как развивались его духовные силы; как возникали и мало-помалу рушились его надежды, сомнения; как иногда события, наполнявшие его душу отчаянием, с течением времени обращались в его пользу и давали ему счастье; как другие, напротив, и именно те, которые охватывали его душу восторгом, в которых он видел свое счастье, от которых ожидал невесть каких радостей, обращались на его погибель или горе; может ясно увидеть, как все его расчеты, соображения, самые обдуманные планы не привели ни к чему или к совершенно противоположному тому, чего он желал, к чему стремился, и как все в жизни подготовляло и вело его к тому пути, который назначен ему волей Вышнего. Как жаль, что у меня недостает красноречия, нет умения убедить вас в том, что вы лишаете себя и большого удовольствия в старости, и большой пользы в молодые годы. Если бы вы стали только записывать ваши впечатления и поступки, вы бы незаметно привыкли и обдумывать их, и строже судить себя. А сколько раз в жизни вы нашли бы в ваших дневниках и утешение, и повод к задушевному смеху.
— Может быть, у вас, Марина Федоровна, было о чем писать, а у нас, право, не о чем, — сказала одна из девочек жалобным голосом.
Марина Федоровна улыбнулась.
— У меня было не более впечатлений, чем у вас в ваши годы, могу вас уверить, а в будущем, весьма вероятно, жизнь многих из вас сложится так, что их у вас будет и гораздо более, нежели у меня. Есть же ведь и среди вас такие, которые находят, что вписывать в свои дневники.
Инна Гурович вынула из конторки толстую тетрадь в красном картонном переплете, открыла ее и сказала:
— Марина Федоровна, уверяю вас, что я несколько раз принималась писать, но как прочту написанное, руки отнимаются и надолго пропадает охота писать. Может быть, я совсем глупа, глупее всех в классе. Вот посудите сами, я вам прочту.
— Страница первая, — начала девочка, — фамилии, фамилии, кто где сидит, где лежит… Очень интересно!
Она перевернула несколько страниц.
— Страница шестая. «Вызвал меня сегодня Нейдорф, заставил писать на доске фразы на выученные слова. Он говорил по-русски, я писала по-немецки. Все было хорошо. Только он сказал: “Собака бежала и лаяла”. Я смешала Hund с Huhn и написала: Der Huhn liefe und bellte. Он прочел, засмеялся и сказал: “Ich mochte gern einen Huhn bellen hohren” [111]. Потом поправил ошибки в двух глаголах в первой фразе и поставил тройку. Когда я села на место, Ирецкая стала приставать ко мне и спрашивать, как петухи поют. Я рассердилась. Она нагнулась и опять спросила. Я толкнула ее локтем и сказала: “Отстань”. Локоть попал ей в глаз. Она разревелась и сказала мадемуазель Милькеевой и всем, будто я разозлилась, толкнула ее и сказала: “Вот тебе!”. Выходит, что Ирецкая страшная лгунья и дрянь».
— Ну что же. Это ты когда писала?
— Четыре года тому назад, в маленьком классе еще. Да и потом все такие же прелести, — сказала девочка, смеясь.
— Ну, в четырнадцать лет ты уж не так напишешь, а для маленькой и то неплохо. Что же, с тех пор изменила ты мнение об Ирецкой? — спросила Марина Федоровна, улыбаясь.
Все засмеялись.
— Однако теперь я вас оставлю, а вы без шуток, серьезно подумаете о завтрашнем дне. Вы уже не маленькие, — сказала Марина Федоровна и вышла из класса, но через минуту вернулась с книгой, села у стола, раскрыла ее и стала читать, не поднимая головы.
В других классах было тоже не менее оживленно. Все готовились к празднику и готовили подарки своим родителям, родственникам, обожаемым «предметам» и друг другу. Одни вышивали шелком, бисером, стеклярусом и шерстью сувениры по бумажной канве; другие разматывали шелк, серебряные и золотые нитки; третьи подбирали и складывали пустые скорлупки грецких орехов парами, потом, положив по две или по три горошинки внутрь каждой пары, заклеивали скорлупки воском, заворачивали их плотно хлопчатой бумагой, выравнивали, стараясь придать форму правильного шара, обматывали аккуратно нитками и передавали записным искусницам, которые, подобрав общими силами и не без споров оттенки шелка, начинали отделку. Шары в их руках скоро преображались в красивые пестрые, разноцветные мячики. Разнообразие рисунков и цветов на этих мячиках было замечательное. Были и клетчатые, и полосатые, и треугольниками, и звездочками, были и одноцветные, подобранные в тон, и в два-три цвета, были и всех цветов радуги. Каждый оконченный мячик переходил из рук в руки и вызывал восторг, критику и подражание.
Те из барышень, которые не умели сами работать, смотрели из-за плеча работавших или стояли перед ними на коленях. Они обычно были на посылках у первых. «Принеси то, сделай это, обрежь, спроси, принеси, отнеси» — только и слышались команды. Готовые мячики разных рукодельниц складывались очень часто и очень бережно вместе, сравнивались, вызывали споры и восклицания. В классе Марины Федоровны были тоже три-четыре искусницы, которые уже с Великого Поста были завалены просьбами подруг, приготовленными вчерне шарами и свертками размотанного шелка и мишуры.
110
Протеже, то есть лицо, находящееся под чьим-либо покровительством (франц.).
111
Собака и курица… Курица бегала и лаяла… Я бы с удовольствием послушал, как лает курица (нем.).