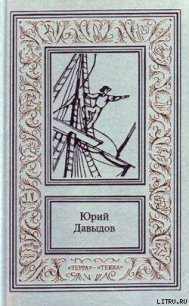Из Гощи гость - Давыдов Зиновий Самойлович (читать книги регистрация TXT) 📗
И черноризец, довольный, что о другом пошла у них с князем Иваном речь, сразу же начал, промочив только горло добрым глотком из стакана своего:
— Апостолы те, вспомни, разбежались от бражника по кущам в великом ужасе — правда глаза колет, — и сидят они по кущам, как бы блаженствуют. А бражник все толчется, надрывается, горлопан… И слышит из-за тына словно гусли и тимпан [79]:
«Аллилуйя, аллилуйя, отец и сын!.. Кто ты, толкущийся в райский тын?»
«Я есмь бражник, и в рай мне охота. А ты кто такой? Поешь аллилуйю: «Свят, свят, свят…» Но кто же ты, поющий у райских врат?»
И бражнику из-за тына в гусли бренчит:
«Я есмь псалмопевец, царь Давид. Ты же — бражник, пьяный человек, а бражникам сюда не можно ныне и вовек».
«Поешь ты не гладко, — сказал ему бражник. — Ну-ка молви, псалмопевец: взял ты кровь невинных на душу свою?.. Почему ж мне в рай не можно, коли сам ты в раю? И как это вы в рай попали, грешники, убойцы!..»
Побежал и царь Давид от бражника-распойцы. Тимпан потерял, гусли изодрал, в кущу залез, сидит «святой» псалмопевец Давид. А бражник все толчется, не унимается, заплутай, ибо время приспело и бражнику в рай. И слышит из-за тына — кричат ему тотчас:
«Кто там толкается? Невежа, вертопляс!»
«Я есмь бражник; а ты кто таков?»
И слышит из-за тына — другой пустослов; вопит на всю округу, кричит во всю мочь:
«Я Никола-угодник, ты же поди прочь!»
«Га!.. И ты тут!.. — вскричал тогда бражник шумно весьма. — На соборе вселенском я ли Ария убил? Кто Ария убил?.. Ну-ка молви, угодник святой!..»
И отбежал Никола в кущи к апостолам тем. Сидит угодник молчит, как бы блаженствует в куще. А бражник и пуще в рай толкается, не унимается.
«Почему, — кричит, — не пускают?.. Душа моя жаждала вина, и пил я до дна. А теперь в рай мне охота, только о том и забота — в кущу зеленую, под ветвь благовонную. Хотя я распойца, да не смертный убойца».
И стучится бражник и толчется, криком своим молебны заглушает… Всполошилось в раю священство:
«Не стало нам в кущах блаженства…»
«Не слышно «Аллилуйи», ни «Хвалите»…»
«Да киньте ж ему ключи те!..»
«Вынь да подай!..»
«Пустите его в рай!..»
Повылезли из кущей угодники божьи, а бражник из-за тына вопиет им все то же:
«Я не убойца, я есмь распойца… Святой Николай, пусти же меня в рай!»
И сказал тут Иоанн Богослов:
«Душа его жаждала вина. Ныне жаждет душа его покойцу. Пустимте, братия, в рай и распойцу. Переспит под кущами, протрезвится, захочет напиться, ан вина-то и нет, нету вина — тем душа его и спасена. А пойдет отсюда в адову державу и пустит там о нас недобрую славу. Не было б заботы — откройте ему вороты».
И открыли ему ворота, и вошел бражник в рай и сел под кущи на лучшем месте. По сей день там сидит, блаженствует.
— Всё?.. — спросил князь Иван, когда Отрепьев умолк.
— Всё, — ответил чернец, опять пробираясь к лежанке.
— Ох, Григорий, — погрозил ему пальцем князь Иван. — Отче Григорий!..
Не молвив ничего больше, князь Иван поднялся с лавки и пошел к себе.
VIII. Кожемяки
На Пожаре подле скамей и палаток стала выбиваться трава в непрохожих местах; цвел мох по изветшавшим кровелькам съестных избушек; над пестрыми куполами в поднебесной высоте медленно кружил сарыч.
Из Никольских ворот против Земского приказа вышли двое в суконных однорядках и с саблями на кованых тесмяках. Было тихо на площади, и даже на Земском дворе [80] умолкли вопли истязуемых и гиканье палачей.
Отобедала Москва и теперь отдыхала от торгов, сутяги и государевых дел. Только из нор каких-то под лавками торговцев вырывался по временам стук молотка либо визг пилы.
Из сторожки у земских ворот высунулась простоволосая баба и, завидя людей, опоясанных саблями, юркнула обратно в сени. А растянувшийся на пороге воротный сторож, тот и вовсе чуть со ступенек не скатился, когда глянул на однорядку, шедшую впереди по измочаленным бревнам. Мужик вскочил на ноги, содрал с себя колпак и бухнул на колени, раскачиваясь в поклонах промелькнувшим однорядкам вслед. А те, миновавши Земский двор, взяли напрямик к Китай-городу. Но шедший впереди остановился, поднял вверх голову и загляделся на дикую птицу, парившую в глубокой лазури.
— На каленую стрелу его взять, пал бы камнем на сырую землю!
— Стрелой, государь, его не добыть. Из мушкета пальнуть, авось был бы сарыч твой.
— Кликнуть ли нам стрельца с мушкетом?.. Не так… Летай себе, сарычок. Для чего мушкетом народ полошить? Вишь, спят, как мертвые. С курами ложатся, а и в обед спят и мал и велик. Пойдем, Иван Андреевич, дале, по Москве походим…
И оба, Димитрий с князем Иваном, стали вновь пробираться к Китай-городу меж кучами мусору, ржавья какого-то истлевшего и людьми, разлегшимися вповалку на едва обсохшей под негорячим еще солнцем земле.
За каменными рядами у амбара копошилось несколько кожевников подле вороха телячьих шкур. Дух нестерпимый шел от кади с загнившей водой, в которой вымачивали кожевники свои изделия. Князь Иван зашагал было быстрей, но Димитрий остановился у амбара и стал глядеть на старика, то и дело наваливавшегося впалою грудью на деревянный рычаг.
— Лет тебе сколько, старче?.. — обратился к кожевнику Димитрий.
— А для чего их считать, господине? — молвил старик, тяжело дыша, голосом исчахшим. — Считать их незачем и неколи. Борода седа, голова плешата, значит, и лет богато.
— Вишь ты, и борода у тебя седа, — заметил ему Димитрий, — а кобылку [81] под самую бороду поднял. Ты спусти кобылку пониже, тогда и навал у тя станет покруче. Да и мнешь ты, дед, один только телячий хвост. Ты мне середку и по краю обминай.
Из амбара вышли люди в кожаных передниках, с руками, изъязвленными от соли и дубового корья. Дед протер кулаком гноившиеся очи и молвил безучастно:
— Помни с мое, господине, забудешь, где хвост, где грива. Век целый мнем мы тут столь, а намяли себе имения — горб да мозоль.
— Красно баешь, отче, — поморщился Димитрий, — а только спрошу тебя: такие ли опойки привозят к нам персияне, гамбургские немцы?..
— Ну, те — басурманы, их черт учил, — махнул рукою старик, усаживаясь под амбаром на кипу кож. — А нам, христианам, где знатья занять?.. Как отцы, так и мы. Не от нас повелось.
— Фью-у-у, — свистнул Димитрий протяжно. — Куда, отче, ты загнул! Эвон, гляди, у тебя на весь обзавод да кадь одна…
— Полно, господине, балясы точить!.. — вмешался смуглый, точно в дыму прокопченный, кожевник. — Ступай своей дорогой. А то нам и без твоей науки тошно. «Персияне», «немцы»… Вонде пустили их, немцев, литву всякую, что козла в огород, а ты тут — «немцы»… «кадь»… Да за эту кадь гривна серебра плачена! Не ты ли нам на кади пожалуешь серебра?
— А хоть бы и так, — пожал плечами Димитрий, поднял полу однорядки и, сунув руку в карман, захватил там денег горсть. — Гляди-ко, я крут! — молвил он, насупив брови. — Не избыть тебе батогов, коли пропьешь в кабаке. — И он звякнул по деревянной кобыле серебром. — А опойки, коли будут добры, приноси ко мне в Верх. Только люд вы обманный, — задергался он, поправляя на себе однорядку и саблю. — Да если своруешь, кожемяка, прикажу разнастать на опойках и плетью бить. — И он повернулся на каблуках и пустился по улице едва не бегом.
А кожевники рты разинули, глаза выпучили на полушки и копейки, разметанные по кобыле, на кругленький ефимок [82], скатившийся с кобылы наземь, на кинувшегося прочь человека, в котором они по простоте своей своей сразу не признали царя.
— Чего ты, старый гриб, глядел!.. — напустился смуглый кожевник на вскочившего со своей кипы деда. — Целый час вякал: «горб» да «мозоль»… Эх, ты! — И он сгреб себе в ладонь рассыпанное на кобыле серебро.
79
Древний музыкальный ударный инструмент, род литавр.
80
В ведении Земского двора (Земского приказа) находились главным образом всякие полицейские дела: по борьбе с преступным миром и пожарами, по охране общественной тишины и спокойствия и пр. Учреждение это было расположено на месте нынешнего Государственного Исторического музея.
81
Деревянный обрубок, на котором кожевники выминают кожу при ручной ее обработке.
82
Талер, чеканившийся в Иоахимстале (в Чехии) из туземного серебра.