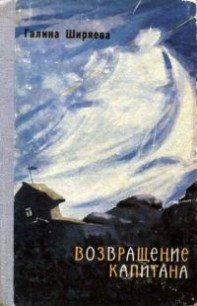Утренний иней - Ширяева Галина Даниловна (книги онлайн .TXT) 📗
Они шли и молчали. И так хорошо было идти и молчать, зная, что позади них идет большой и сильный человек, на руку которого, наверно, всегда можно надежно опереться. Нет, Настя не завидовала Виолетте. Та теплая, светлая грусть мешала ей завидовать…
А потом Виолетта все испортила.
— Твой дед, наверно, не очень хороший человек, да? — спросила она вдруг резко.
— Откуда ты это взяла? — тихо, не сразу ответила Настя вопросом на вопрос.
— А я, между прочим, в твой распрекрасный Каменск еще один раз ездила!
У Насти внутри все похолодело.
— С пирожными, между прочим, ездила… Так вот, мне там кое-что и рассказали.
— Что… рассказали?
— А то!
— Что?
— А то, как твой дед Евфалию Николаевну из интерната выжил. Ну, а уж потом интернатники тебя выжили из-за этого.
— Никто меня не выживал! — почти крикнула ей Настя. — Я к маме приехала! К своей родной матери!
— А виноват во всем твой дед! И потому ты от него сбежала! — решительно заявила Виолетта.
Настя остановилась. Виолетта тоже. И так они стояли молча, довольно долго и при неярком свете уличных фонарей не могли разглядеть выражения лиц друг друга, а потому Настя так и не поняла, что же знает Виолетта о деде Семене… Так они стояли, пока задумавшийся о чем-то отец Виолетты чуть не налетел на них. Настя облегченно вздохнула.
Дальше они пошли уже все вместе и разговаривали уже совсем о другом, о чем придется. И Настя совсем успокоилась.
Проводили они ее до самых дверей квартиры, и открывала она дверь с тяжелым сердцем — оттого, что приходилось расставаться с этими хорошими людьми, а еще оттого, что не знала она, как же отнесется новый отчим к столь позднему ее возвращению домой.
Однако отчим даже не заметил, что она вернулась. Он возился с умолкнувшими часами, пытаясь их починить.
Но часы молчали. То ночное прикосновение материнской руки почему-то заставило их умолкнуть так безнадежно.
А может быть, просто они от своих безуспешных попыток рассказать что-то тяжкое людям, которые их не понимали. Рассказать что-то такое, о чем знали давно.
7. «СЕЛО С РАССВЕТОМ ВЫШЛО ИЗ ТУМАНА…»
Это была первая светлая ночь за долгое осеннее время. Свет луны прорвался сквозь завесу давних плотных облаков, и выпавший вчера снег тоже светился. Голубой свет снега и луны вошел в комнату, когда Фаля слегка отодвинула висевшие на окне старенькие тряпки — затемнение.
За окном, в этой светлой серебряной ночи, стояла тишина — спокойная, сильная тишина притихшего, но готового ко всему города. Опершись локтями о подоконник, она долго смотрела на свет луны и снега, так хорошо и спокойно освещающий спящие дома на противоположной стороне улицы и легкую сеть оголенных и покрытых теперь пушистым снежком древесных ветвей, бросающих кружевную легкую тень на оконное стекло. За окном жила зимняя сказка из прежней жизни, и Фале захотелось уйти в эту сказку, в добрую Том-кину сказку, где сказочная Метелица наметает белоснежные с искрами сугробы и елка таинственно мерцает разноцветными фонариками в своей колючей зеленой чащобе. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла…»
Слова этой песенки, убитой войной, вызвали в душе мучительную боль, от которой нельзя было избавиться, которую нельзя было смягчить никакими хорошими и добрыми словами. Потому что все хорошие и добрые слова напоминали прошлое, тоже убитое навсегда.
За окном раздался четкий, неторопливый цокот копыт — ночной патруль ехал по улице. Разбитая стуком копыт тишина не сразу вернулась в дом, и озябшая Фаля-, дожидаясь ее, еще долго сидела у окна. Мать могла проснуться от этого тревожного, такого непривычного ночного звука на их тихой улице.
Но больше всего она боялась, что мать проснется именно в тот момент, когда она будет снимать ковер со стены. Мать спала неспокойно, и Фаля, прежде чем взобраться на табуретку возле ее кровати, минут десять стояла, прислушиваясь к ее дыханию и боясь пошевелиться. Сюда, за занавеску, свет из окна падал приглушенно, словно бы с какой-то опаской, но все равно освещал хоть и слабо, но довольно четко похудевшее лицо матери и узор ковра на стене. Даже тонкую золотую нить, вплетенную когда-то в узор, высветил и посеребрил, превратив золото в серебро.
Мать не просыпалась. Фаля осторожно взобралась на табуретку. Оставалось только протянуть руку pi снять ковровые петли с гвоздей. Их было восемь — восемь петель, восемь гвоздей. Она уже протянула руку к первому, крайнему гвоздю. И замерла.
Она увидела то, что никогда раньше не видела при дневном свете. Или глаза ее настолько отвыкли от света, что в полумраке видели лучше?.. И она увидела: золотая нить на ковре, освещенная теперь слабым лунным светом, вплетала в цветочный узор два имени. Это были имена отца и матери.
Лишь теперь она поняла, почему так дорог матери этот ковер. Он был для нее таким же талисманом, как и для Фали красные флажки, оставленные на карте рукой отца.
Но ведь Фаля не тронула флажки, а непоправимое все равно черной бедой вошло к ним в дом. Она же не тронула флажки, даже не прикоснулась к ним — они, давно выгоревшие и почерневшие от угольной пыли, так и торчали там, у самой границы, совсем недалеко от лезвия коричневого топора… А топор этот все равно уже совсем близко от них.
Она быстро, почему-то уже не боясь, что разбудит мать, одну за другой сдернула с гвоздей тяжелые петли.
На лице матери, так четко высвеченном теперь луной, лежали глубокие, черные тени лишь в запавших глазницах, и ей показалось, что мать в полумраке смотрит на нее широко открытыми глазами.
Воскресное утро пришло морозное. К утру еще выпал снег, и теперь его сметал в сугробы холодный, уже по-настоящему зимний ветер. Фаля знала, что продрогнет на толкучке, но все равно радовалась снегу — без санок она просто не дотащила бы ковер до рынка.
Она очень долго провозилась с печкой, а потом, когда та наконец все-таки разгорелась, мать долго не отпускала ее от себя. Фаля уже раза четыре порывалась уйти, напомнив ей в который раз, что собирается к однокласснице, у которой тетка из деревни приехала, и там Фале обещали дать немного меду. Мать каждый раз с тревогой спрашивала:
— А маленькие как же?
— Томка же придет! Вот свою печку растопит и придет! Но тревога не уходила от матери. Только-только Фаля начинала надевать ботинки или повязывать платок, как она тут же все с той же лихорадочно-тревожной настойчивостью спрашивала:
— А как же маленькие останутся?
— Не навсегда же я ухожу! — не выдержала Фаля.
Шел уже двенадцатый час, а до базара надо было добираться долго, пешком по холоду, да еще с тяжелыми санками.
— А как же маленькие?..
— Хватит! — грубовато сказала Фаля. — Я пошла.
Ковер еще с ночи был спрятан в чулан. Она потуже стянула его обрывком веревки и вытащила вместе с санками и кошелкой, в которой лежала банка для меда, во двор.
Белизна наступившей зимы ослепила ее на какое-то мгновение. Выпавший снег, сметенный ветром в легкие пересыпающиеся волны, переливался блестками. У нее вдруг стало как-то легче на душе. То ли от этих по-новогоднему праздничных, елочных блесток на снегу, то ли от приятной мысли — сегодня у нее будет мед для матери.
— Детонька ты моя! — услышала она за спиной голос Ульяны Антоновны. — В такую-то даль! По морозу!
Ульяна Антоновна стояла перед ней с охапкой трухлявых, рассыпающихся под ее руками щепок. Дров ей так и не привезли, и теперь она потихоньку разбирала крышу общего сарая, и все делали вид, что не замечают этого. Ее брат, такой же старенький, вместе с которым она жила, умер в начале прошлой зимы, и это были первые похороны у них во дворе. Вторая смерть — Фалин отец. Только похорон на этот раз не было.
— Детонька моя! Дай-ка я тебя вот хоть шарфом еще укутаю!
Она размотала свой длинный теплый шарф и укутала им Фалю поверх дырявого тоненького платка.
— Все потеплее будет! Разве можно теперь хворать! Захвораешь — не поднимешься!