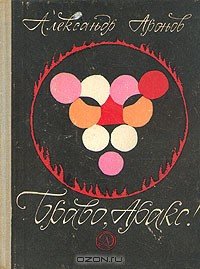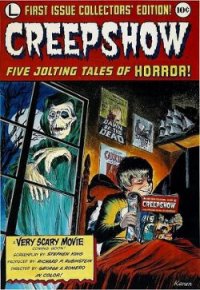Цирк приехал! - Аронов Александр (книга регистрации TXT) 📗
Наверху два несмешных клоуна лениво колотили друг друга палками и обливали водой.
Дышалось по-прежнему легко. Но дышать надо было умеючи, экономно расходуя воздух. Сколько времени ушло на то, чтобы выработать такое дыхание! Сколько репетиций!
Дядя Проня вздрогнул. Ему показалось, что на его голом плече что-то шевелится. Это неведомое «что-то» медленно поползло по груди. Атлет в ужасе дернулся и сильно ударился головой о крышку. Горло захватила спазма.
Громко зажужжала муха. «Ну и напугала, проклятая… Э-э, матушка моя, да мы вместе с тобой погребены… Очень приятно. Не так скучно будет».
Муха перестала жужжать.
— Что, испугалась? То-то! Тут, брат, шутки плохи! — Собственный голос звучал в гробу очень странно.
На манеже продолжали кривляться клоуны.
— Ка-ан-ц-церт пра-а-адал-жается! — кричал первый, терзая смычком струну, натянутую на обыкновенной метле с бычьим пузырем.
— Маруся атра-а-а-ви-ла-ась гарячей ка-а-а-лба-сой… — завывала метла.
В ответ гнусаво фальшивила пила:
— И бедную М-а-а-русю везут в приемпа-а-а-кой… Клоуны перестали играть и поклонились. Раздались жиденькие хлопки. Ромкин отец снял с ног узкие лакированные штиблеты, которые ему чуть жали.
Веселый гном двоился в глазах, наполненных слезами.: Дядя Проня глядел на него и улыбался. Он вспоминал о Пансито. О старом обрусевшем японце Пансито, который посвятил его, молодого артиста Проньку, в таинство исполнения «живого мертвеца». Давно это было… Они подружились в маленьком южном городке России много лет назад, когда великан выступал в труппе «Десять арабов-прыгунов Мариано» никому не известным сальтоморталистом. Познакомились они вскоре после приезда японца в город. Старик ходил в глубоком трауре: он только что овдовел и остался с маленьким сынишкой. Мальчик почти не говорил по-русски. Пронька привязался к малышу, играл с ним, обучал несложным трюкам: стойкам, колесикам, кульбитам, учил русскому языку и сам учился японскому.
«Значит, „мама“ по-японски будет „хаха“?» — спрашивал он.
«Хаха», — соглашался малыш.
«А „папа“?»
— «А „папа“ — „тити“».
— «Ну скажи ещё что-нибудь…» — просил Пронька.
«Хаха синда…»
— «Что значит „хаха синда“?»
— «Хаха синда» значит: «мама умерла»…
Очевидно, благодаря этой дружбе японец относился к Проньке более приветливо, чем к остальным. С окружающими он был замкнут. Но на него никто не обижался: в цирке умеют понимать чужое горе.
На афишах японца было написано, что он первый и единственный исполнитель «живого мертвеца». Это было неправдой: подобные номера существовали и до него, но по количеству времени, проведенному под землей, у Пан-сито действительно не было равных. Он мог пролежать в могиле свыше двух часов.
И вот однажды случилось несчастье. Заканчивалось второе отделение программы. Пансито лежал в гробу, а над ним шло представление. Все точь-в-точь как и сегодня. В темноте над могилой Пансито жонглер подбрасывал горящие факелы.
Раздался яростный удар грома. Блеснула молния. Сильный ветер сорвал и унес брезентовую крышу. С неба хлынул поток воды. Ещё порыв ветра. Затрещали и ловалымсь столбы, погасли лампы. Раздался крик ужаса.
Люди бросились из цирка, пересекли рыночную площадь и укрылись в церкви. Бушевал ветер, град стучал по крыше, вода затопляла землю.
Ураган стал затихать. В толпе жался от холода Пронька. Он вдруг коротко вскрикнул.
Пансито! Забытый всеми Пансито уже свыше двух часов лежал в глубокой могиле.
Пронька бросился в цирк. За ним, утопая в грязи и лужах, побежали остальные артисты. Издали они услышали судорожный звон колокольчика, соединенного веревкой с гробом.
В центре пустого манежа, в мутной воде, лежал сынишка Пансито. Горько плача, он ожесточенно разрывал сырую землю ногтями. Колокольчик яростно трезвонил. «Тити! Тити!» — кричал мальчик. Колокольчик звенел все громче и настойчивей.
Увидев Проньку, мальчик бросился к другу: «Тити синда! Тити синда! Хаха синда… Тити синда!»
Колокольчик умолк. Лопнула веревка. Яму быстро откопали. Пронька рванул крышку гроба. Со скрипом выскочили гвозди. Разгневанный и ни о чем не ведавший старик поднялся и залепил Проньке такую пощечину, что Тот повалился на спину. Так началась дружба.
«Где-то теперь старик?» — вспомнил, улыбаясь, великан.
Сандро стоял у занавеса и кусал губы. Почему нет сигнала? Прошло уже пятнадцать минут. Почему так долго нет сигнала?
Чарли Чаплин бегал по манежу и безуспешно пытался поймать собственную шляпу. В ложе хохотали до слез. «Ну как можно сейчас смеяться?» — думал Сандро. На барьере зажглась лампочка.
Ухмыляющийся гном весело щурил глаз, вот-вот захохочет. Дышалось по-прежнему легко. «Пожалуй, пролежу часа полтора, — размышлял атлет, — сил не убавилось. Не то что в прошлый раз. Тогда в это время голова начала болеть. Если пролежу, прибавит Индус, прибавит. Уплачу ещё взнос. Останется последний — и все: удав мой… Уйдем. В ЦУГЦе „мертвеца“ не заставят работать… Не так плохо в ЦУГЦе. Врут Гораций с Глебом Андреевичем. Зачем государству артистов обманывать?»
Над манежем повесили сетку. Шпрех объявил воздушный номер «четырех чертей».
«Интересно, был полет или нет? — думал дядя Проня. — Как там Донат? Небось летает, а сам про меня думает. Не волнуйся, Донечка, выдержу. Вместе уйдем. Всех с собой заберем. Шурка будет рад. Эх, Шурка, Шурка, славный парень… Ведь я сразу понял, что поколотили тебя в школе. Выдумал про подвал с мелом. Не хотел меня расстраивать, вот и соврал! Не волнуйся, Шурка! Сейчас для тебя специально подам длинный сигнал. Знай, что думаю только о тебе, болезный ты мой…» — И артист нажал кнопку.
— Тебе не кажется, что лампочка слабей стала гореть? — спросил Сандро Василия Тихоновича.
— Что ты! Что ты!
— Эх, дядя Вася, зря я насчет батарейки подал мысль, — снова нагнулся к лилипуту Сандро. — С колокольчиком надежнее.
Время шло… Высоко под куполом передвигался, вися вниз головой и переставляя ноги из петли в петлю, «человек-муха». Артист раскачался на последней петле и очутился на мостике. Борька, Влас и многие зрители не видели этого. Взоры их приковывала лишь лампочка на барьере.
В гробу стало темнее. «Неужели батарейка садится? — с досадой подумал дядя Проня, глядя на меркнувшего гнома. — Говорил же Сандро, что старая батарейка была у Доната…»
Тело снова сползло. Голова уперлась в переднюю стенку гроба. Атлет передвинулся наверх. Он дышал медленно и глубоко. Воздух стал тяжелым. В гробу было жарко.
Дядя Проня провел рукой по мокрому лбу и вытер её о горячую, влажную борцовку. «Опять зря сколько сил потратил. Нельзя так».
В висках заколотилась жилка. В затылке дядя Проня ощутил резкую боль. Казалось, в череп вонзили длинную острую иглу. Боль увеличивалась с каждым мгновением, но прекратилась так же внезапно, как и появилась. «Ну совсем как в последний раз», — со страхом вспомнил богатырь.
Снова зажужжала муха. Зажужжала громко, отчаянно, с силой колотясь о крышку гроба…
Лампочка горела слабей и слабей. Гном таял в темноте.
— Посмотрите на часы. Сколько он там пролежал? — спросил у гробовщика Ромкин отец, блаженно шевеля пальцами ног.
Вынув из жилетного кармана массивные золотые часы, Иван Пантелеймонович глянул на циферблат:
— Прекрасно! Пятьдесят шесть минут. После такой нагрузки он не выдержит дальше.
— Выдержит! — уверенно заявил Ромка.
— Нет, не выдержит. Плакали ваши денежки! — засмеялся гробовщик.
— Как бы ваши не заплакали! — возмутился Ромкин отец.
— Может, удвоим ставки?
— С удовольствием…
Гробовщик громко захлопнул крышку часов. Ударили по рукам. Ромка разбил.
«Почему нет сигнала? Почему опять так долго нет сигнала?» — нервничал Сандро. Рядом с ним стояли, сгрудившись, все остальные участники программы. На лампочку смотрели все: зрители, оркестранты, билетеры и даже Чарли Чаплин, который сидел на барьере, пиликал на концертино и пел песенку: