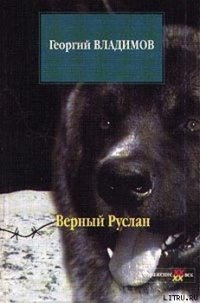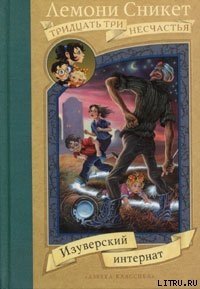Интернат (Повесть) - Пряхин Георгий Владимирович (книги без сокращений txt) 📗
Мы вылезли из своей конуры, трезвые, промерзшие. Нас дружелюбно обнюхали собаки: в маленьких деревнях они скучают, как люди. Шофер тоже деликатно топтался рядом.
— Ну, жена его тут. Вон — третья изба светится. Заночуйте у нее, она баба хорошая, а утром я же вас могу отвезти обратно, мне все равно опять надо в город. Опять запчасти в «Сельхозтехнике» просить!..
Ему было неловко, что эксплуатировал нас за здорово живешь.
— А вы кто ему будете? Родня или просто?
— Просто, — буркнул Гражданин.
— Ясно, ясно, — с готовностью подхватил мужичок. — Мы тут все его хоронили, ограду сварили, чтоб коровы не затоптали. Три месяца пришлось возить детей в другую деревню, в интернат, учителя не было. Потом прислали. Сейчас же как? Школы нема, и деревня сразу вразбежную. Пахать-сеять некому, государству убыток. Да чего стоять, давайте я провожу вас к Тимофеевне.
Мы бы нашли дорогу и без него, и кто-кто, а уж тетя Шура наверняка бы признала и приняла нас, но остаться сейчас вчетвером — все равно что остаться одному, и мы послушно пошли вслед за шофером по узенькой, жавшейся к избам дорожке, среди сугробов и висевших над ними огней. Избы, ворота — все скрадывалось темнотой, и казалось, что освещенные окна висят над снегами — неярко и неровно. Две короткие, ныряющие цепочки окон, две узкие, след в след, дорожки. За нами преданно плелись попутные дворняги.
Шофер постучал в занавешенное окно. Занавеска отодвинулась, и в окне показалось лицо тети Шуры.
Она нас в темноте не различала, зато мы ее видели до мельчайших морщин. Она почти не изменилась. Те же светлые, сейчас чуть удивленные глаза, то же полное, приятное лицо. И лишь волосы, что были так хороши — смоль с серебром, — стали совсем-совсем однотонными. Как белый снег, как белый свет.
Мы видели и ее, и, пожалуй, самих себя — тех, которых давно нет. Это продолжалось минуту, от силы две, но если глаза в глаза, то минута — много, можно не выдержать. Мы не выдержали, потупились, хотя знали, что эти высветленные настороженные глаза нас не видят, просто не могут видеть.
Шофер прижался лбом к стеклу, чтобы она смогла узнать его:
— Это я, Лутовинов. Гостей привез, Тимофеевна.
— Гостей? — ее глаза стали еще удивленнее. — Проходите, калитка не заперта.
— Ну вот. Если чего, до завтра, я подъеду, — говорил нам шофер повеселевшим голосом, как человек, отплативший за добро добром. Он попрощался с каждым за руку и той же стежкой пошел назад, к машине. Мы вошли в калитку, на ощупь, под смирным контролем беспривязной легавой пересекли двор, взошли на крыльцо.
На крыльце стояла тетя Шура.
Она вглядывалась в нас и не узнавала, узнала только в комнате, на свету. Растерялась, стояла между нами — теперь она меньше любого из нас, — не зная, как совладать с собой;
— Господи, так это вы? Вы к нему?
Она поворачивалась то к одному, то к другому, простоволосая, потерянная, и говорила, словно прощенья просила:
— Так нету его, нету.
Она заплакала — не в голос, а так, на ходу, как испокон веку плачут на Руси вдовы, которым просто некогда поплакать всласть, и, плача, раздевала, усаживала, согревала нас.
— Вот вам и государственные харчи. Я уж и до плеча вам не дотянусь.
Руки у нее теплые, легкие, тыщу лет никого из нас не раздевали и не согревали с дороги такие руки.
Усадила, как говаривала моя мать, «ублаготворила» каждого и сама присела напротив.
— Мы помянуть, тетя Шура, — сказал Гражданин.
— Вот и хорошо, вот и молодцы, — плакала она.
Она не спросила, почему же мы не приезжали раньше и даже наоборот, — сказала, что так и знала, так и чувствовала, что мы обязательно приедем.
— Рано или поздно, рано или поздно, — говорила, успокаиваясь.
Видно, Учитель тоже так думал и ждал.
Рано или поздно…
В комнате стало тесно — нечасто, наверное, собиралось здесь столько народу. Комната небольшая, ухоженная, с выбитыми занавесками и с цветами на подоконниках. Стопка дров у горящей, окованной жестью печи, ковер на стене, на ковре — ружье, шестнадцатый калибр: оказывается. Учитель был (или стал) охотником. На другой стене струганные доски с книгами и увеличенная, в рамке, фотография Учителя. Лоб, глаза. Учитель улыбался, что было, в общем-то, непривычно.
— Женя, выйди к нам, познакомься с гостями.
Из передней, отделенной вместо двери цветастой ситцевой занавеской, вышла девушка, почти девочка — джинсики, свитерок, под которым ровно ничего не было, но очень стремилось быть, волосы, которых тоже, можно сказать, не было, — так, мягонькая шерстка на голове. С первого раза и не поймешь, то ли Женя, то ли самый настоящий Женька, Джек Паровозный Свисток. Но когда подавала нам руку — так не подают, а просят, мы убедились: Женя.
— Это наша новая учительница, — сказала тетя Шура, и Женя покраснела до самых ушей. — Никто не хотел к нам ехать, так я ездила прямо в педучилище, там и нашла ее, уговорила.
Во сколько же лет выходят из педучилища? В шестнадцать?
Горела печка; красный командир Бесфамильный оказался исправным истопником, время от времени садился перед ее устьем на корточки, открывал дверцу, чтобы уложить дрова, и горячее зарево обдавало его лицо, всех нас, всю комнату. Терлась у ног лягавая Розка. Тишина, давно не слышанная нами тишина липла к окнам. Мы поминали Учителя. Кое-что привезли с собой, а тут еще тетя Шура сбегала через дорогу к продавщице домой, слава богу, в деревне они пока безотказны, как скорая помощь. Тетя Шура осталась доброй поварихой: на столе благоухала картошка с мясом, вокруг нее ярусами шли грибочки, огурчики, помидорчики, моченые яблоки, моченая брусника. Мы поминали Учителя. Выпили в его память, потом еще раз в его память, потом за здоровье тети Шуры, потом за девушку Женю с прекрасными ушками Джека Свистка, потом за все хорошее. Затем тетя Шура снова всплакнула, а поплакав, принесла из другой комнаты фотографию. Учитель в гробу, а вокруг — Таня, Нина Васильевна, чуть поодаль тетя Шура, а еще дальше незнакомые нам люди.
Учитель лежал с закрытыми глазами, а человека с закрытыми глазами понять невозможно. Этого еще не знает мальчишка, на чьих квелых плечах лежат долгие Танины руки. Почему-то детей ставят ближе всех к покойникам, ими словно отгораживаются от смерти. Он силится понять, промерить («Меряю!» — кричали мы, бултыхаясь в пруду и, задрав руки, набрав воздуху, уходили в мутную глубь, в разверзшуюся под нами бездну, но, испугавшись ее леденящей глубины, с полпути выныривали назад — глаза вспучены, губы раздуло от удушья). Я представил, как его везли сюда, по осенним лесам, по пустым полям, с короткими слезами и с долгим молчанием, и как он сам не понимал, куда едет, и как, наконец, понял — здесь, на последней черте. Мать подталкивает его руками к деду, а он отталкивается от него глазами, как изо всех сил — руками, ногами, глазами — отталкиваются от утопающего.
Печальны глаза Татьяны. Печальны глаза Нины Васильевны. Печальны глаза тети Шуры.
Учителя понять невозможно.
— Сюда мы приехали потому, что здесь у меня сестра, помогла нам дом купить. Подправили его, зажили. Меня учетчицей взяли, он — в школе. Дети мои вскорости в Ленинград уехали — учиться, да так и остались там, на заводах. Несколько раз его в район приглашали, но он не хотел, тут ему вольней жилось: к охоте прилип, к рыбалке. Дети здешние понравились, говорит: талантливая деревня. Ремонт любил. Каждый год у него ремонт. Людей в колхозе не хватает, так стариков и детей соберет, и возятся в школе: пилят, красят, байки мелют. Деды тут речистые, особенно если по сто грамм перепадает. До сих пор горюют за ним. Вчера зашел дед Нестеров, говорит: Павловича нет, так хоть с тобой потолковать. Скушно старику, много ли с ним сейчас разговаривают. А он любил со стариками разговаривать. Затронет, а деды и рады стараться: тары-бары-растабары. Вон дед Нестеров так даже про Анну Керн ему рассказывал. Хоронил он ее, яму копать был нанят, она ж у нас недалеко, в Торжке лежит.