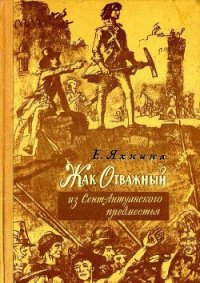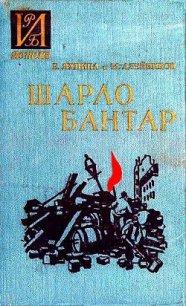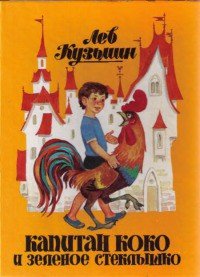Разгневанная земля - Яхнина Евгения Иосифовна (библиотека электронных книг .TXT) 📗
Тут Танчич снова вспомнил о предательстве людей, которым доверял. Неужели тот резчик по дереву, молодой, со светлым взглядом?.. Как всё это ужасно!
Танчич вскочил с койки. Проклятие! Негде даже повернуться. Раз, два, три! Три шага — и упёрся в стенку. Он вернулся к койке, провёл рукой по горячему лбу.
На табурете белел лист бумаги, на котором уже был написано: «Протокол дознания». Всё ещё дрожащей рукой Танчич его расправил и начал писать:
«Немало людей попали на плаху за то, что любил родину больше всего остального. Пред лицом судей, которые стращают меня казнью, я торжественно клянусь, что никогда не изменю этой священной любви. Я счастлив, что моё перо разит врагов отчизны в самое сердце. Я счастлив тем, что правда, которая встаёт со страниц написанных мной книг, зовёт соотечественников к борьбе против рабства, против жестоких порядков, когда дети умирают, протягивая руки к своим родителям, молят о помощи, а они не могут им помочь…»
Воспоминание о дочери мучительно сжало сердце Танчича. Рука его дрогнула, слёзы опять заволокли глаза. Образ Жужуны стоял перед глазами. Встрепенувшись, Михай продолжал писать:
«… Мне доставляло счастье сознание, что я трудился, как внушали мне любовь к родине, истина и совесть; что семена добра, посеянные моими трудами, взойдут и принесут сладкие плоды. Если не я сам и не моя семья — моя любимая отчизна насладится ими!»
Танчич услыхал звук открываемой двери и поднял голову. Вернулся тот же солдат.
— Господин, — произнёс он тихо, — напишите жёне что-нибудь и скажите, как её разыскать. Нынче у нас среда. В следующий понедельник меня отпустят домой на пять дней. Вот тогда я разыщу вашу жену.
— Солдат, — спросил Танчич, — у тебя есть дочь?
— Была…
— Была?
— Ныне вот как раз ей было бы одиннадцать годочков. Третьего марта она родилась. Прошлой зимой померла… Корой питались, как угнали меня в казарму, а хлеб погорел на корню. Лето было сами знаете, какое..
— Вот и моей шёл двенадцатый годок… Одинаковые мы с тобой горемыки. Одними кандалами скованы мы с тобой, хоть ты и сторожишь меня с ружьём.
— Эх, господин, господин… И жаль мне тебя, и слушать нельзя, что ты говоришь. Прощай!
— Иди, солдат, да вспоминай почаще, как умерла твоя дочь. Почаще вспоминай да не прощай тем, кто виноват в её ранней гибели!..
Танчича глубоко взволновала мелькнувшая вдруг возможность послать весточку любимой осиротевшей жене. Так хотелось выразить ей любовь, нежность, тоску отца, мужа, друга… Теперь представлялась и возможность сообщить друзьям о ходе следствия, о том, что в руках следователя каким-то образом оказалась страница рукописи, и о том, что непрочной становится стена, которой власти стараются отгородить узника от всего остального мира. Ещё месяц назад этот же солдат не отвечал ни на один даже самый невинный вопрос, а вот теперь он уже преисполнен сочувствия к арестанту, обвиняемому в покушении на существующий государственный порядок. Сострадание проникло в сердце этого человека, которого в течение долгих лет казарменной муштры одурманивали и обманывали. А через сердце можно найти путь и к его разуму. Разве это не значит, что, даже сидя в тюрьме, он, Танчич, продолжает своё дело, которое так страшно тиранам?
Среда… четверг… Медленно сменялись дни. Томительно тянется время ожидания. Бесконечно долго оно для узника, когда по утрам мартовское солнце, заглянув в крохотное окно, манит, ласково зовёт на волю…
В пятницу, в полдень, когда сменялся караул, Михай не отводил взгляда от двери. По его расчётам, сегодня должен был вернуться доброжелательный солдат. Но у зловещей щели, через которую страж следил за поведением узника, долго никто не появлялся. Такие случаи бывали и раньше. Каждый раз это давало заключённому возможность подтянуться к оконцу и поглядеть, что делается на воле. Так поступил Михай и сейчас. Держась за решётку оконца, он с удивлением заметил необычное оживление на улице. Газетчики бойко выкрикивали какие-то чрезвычайные новости, прохожие жадно вчитывались в газеты, возбуждённо делились между собой впечатлениями.
Окрик часового заставил узника спуститься на пол. На этот раз Танчич повиновался без пререканий. В камеру вошёл долгожданный страж.
— Всё сделал, господин, как обещал, — шепнул он. — Только не в тот день, как вышел. В первый раз я не застал госпожи Танчич. А нынче, как вернулся из деревни, я ранёхонько снёс. Но никому об этом ни слова, не то меня погубите.
— Не беспокойся, добрый человек, никогда не забуду, что ты для меня сделал… Просила жена что-нибудь передать?
— Тише, тише, господин… Письма я взять не посмел — нас часто обыскивают, когда мы возвращаемся из города: иные приносят с собой водку для арестантов, другие письма или ещё что… А на словах она наказывала: скажи, говорит, мужу, что листок, про который спрашивает, оставался у переписчика:
— У переписчика?.. Вспомнил, братец ты мой, вспомнил теперь и я!
— Ну вот, смотрите же, не погубите меня! Никому ни слова!
— Не сомневайся! Я не из тех, кто за добро платит злом! Великое тебе спасибо. Скажи только, почему газетчики сегодня так бойко торгуют?
— Да я и сам второпях не разобрал толком. Кричат. «Кошут в Государственном собрании волю потребовал»! А какую волю, кому?..
— Кошут? В Государственном собрании? Повтори, повтори…
— Господи помилуй, что слыхал, то и сказал. И чего это я тут с вами разболтался! — встрепенулся вдруг солдат. — Нельзя мне разговаривать с арестантами. С меня за это строго взыщут, если узнают, и вам будет худо… Начальник сказывал, будто через месяц начнут выводить арестованных во двор на прогулку, да только тех, кто до той поры ни в чём не провинится.
— Через месяц, говоришь? Ну, тогда меня уже здесь не будет!
— Это отчего же?
— И сам объяснить не могу, но чувствую!
Солдат ушёл обеспокоенный. Его смутило необычное возбуждение, охватившее вдруг этого странного арестанта.
Глава пятая
«Седлайте коней!»
Для простого народа масленица в Санкт-Петербурге началась тем, что на Адмиралтейской площади возвели балаганы, качели, карусели, панорамы. Для высшего общества масленичная неделя ознаменовалась традиционными блинами, балами и маскарадами. Знать готовилась к предстоящему балу в Аничковом дворце.
Однако в столице распространились тревожные слухи, будто государь повелел отменить назначенный на воскресенье масленичный бал. К тому были серьёзные причины. Царь получил тревожное донесение от витебского губернатора: четырнадцать тысяч голодающих крестьян возмутились против своих господ, вооружились ружьями, косами, вилами, топорами и дубинами и двинулись к Петербургу искать у царя защиты против помещичьего произвола. Произошли настоящие сражения крестьян с высланными им навстречу войсками, которые не могли справиться с бунтовщиками. Их обозы растянулись на полторы версты. Губернатор просил усиленной военной помощи.
Столица пребывала несколько дней в неведении, пока не стало известно, что Николай присутствовал, как обычно, на воскресной обедне, а потом и на разводе гвардии. И в самом деле, на параде царь находился в хорошем настроении: накануне ему доложили, что взбунтовавшиеся крестьяне усмирены и примерно наказаны. Царь был очень оживлён, придирчиво следил за выполнением церемониала развода, остался доволен, объявил благодарность командиру и пригласил гвардейских офицеров во дворец к обеду и на вечерний бал.
Бал в Аничковом дворце был в полном разгаре, шёл двенадцатый час, но, ко всеобщему удивлению, царь всё не появлялся. Впрочем, молодёжь была довольна. Непринуждённее становились шутки, веселее танцы, оживлённее разговоры. Можно было беспечно развлекаться, не опасаясь попасться в недобрую минуту на глаза венценосного монарха.
В бурной мазурке гвардейцы лихо неслись со своими дамами по скользкому паркету, как вдруг по залу пронёсся шёпот: «Государь! Государь!»