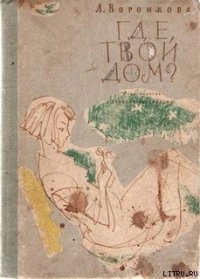Алтайская повесть - Воронкова Любовь Федоровна (первая книга .TXT) 📗
– Э-э, подожди! – спохватившись, закричал ему вслед Костя. – А как там наши яблоньки?
Но Алеша даже не остановился.
– Хорошо, – прокричал он, – растут!
– Буйнопомешанный! – проворчал Костя с улыбкой. – Совсем на своих кроликах помешался.
Так и решили: Алеша ухаживал за кроликами, а Костя косил. А когда кончился покос, Костя, договорившись с Анатолием Яковлевичем, уехал из Кологоша, а Репейников остался вместе с Романычем доживать лето на заимке.
А летние месяцы проходили быстро, не оглянешься. Прошел июль – од-дай – с долгими днями… Вот уж и август – бичень-чабаттан-ай – тронулся в путь. День убавился, как говорят алтайцы, на дверную накладку (запор), а работы целая гора. Дожди помешали вовремя закончить покос. А как блеснули погожие дни, то подоспело все сразу: и сено сушить, и хлеб убирать.
Костя не видел дней – все они проходили на колхозных полях. Его уже вместе со взрослыми косцами посылали на луга. Отец его, лучший стоговщик в колхозе, учил сына укладывать стога, и бригадир поговаривал, что Костя – парень смекалистый, надо бы ему жнейку попробовать.
Ну что ж, если доверяют, почему же Косте не поучиться на жнейке работать? И наступил такой день, сухой и палящий, когда он, прислушиваясь к равномерному стрекоту жнейки, вывел ее на ячменное поле.
Дружная работа кипела в колхозе. Все – и маленькие и большие, – все, кто мог хоть чем-нибудь помочь, вышли в поле. Торопились убрать урожай, пока сияют погожие дни.
Тихо и безлюдно в эту пору было в деревне. Только в яслях и в детском саду прибавилось голосов, и шуму, и хлопот. Кто в обычное время дома управлялся с детьми, так нынче и те сдали ребят на руки колхозным нянькам.
Председатель колхоза, запыленный, почерневший, с красными от бессонных ночей глазами, все торопил и поторапливал. Его озабоченные глаза уже видели, как незаметно пробираются из-за гор серые облачка, как тянется легкая дымка над Катунью, цепляясь за темную хвою тайги.
Костя, захваченный веселым круговоротом горячих дней, пропахший мазутом и свежей соломой, помнил только одно: скорей, скорей!.. А когда поздним вечером приходил домой, то не мог даже доужинать – тут же и засыпал, опершись локтями на стол, и почти не слышал, как мать, смеясь и подтрунивая, отводила его на постель.
Ненастье наступило сразу. Костя сквозь сон услышал дробный стук дождя по тесовой крыше, но ему чудилось, что это где-то глухо и легко рокочет трактор. Еще не открыв как следует глаза, он вскочил:
– Что же вы меня не будите?!
Мать, с ухватом в руках, румяная от огня, выглянула из-за печки.
– Эге, проспал! Все проспал! – засмеялась она. – Уж люди давно в поле – ишь погода-то какая! Разве можно в такую погоду спать?
Только тут Костя увидел, что за окном льет мелкий, сплошной дождь.
– Смеешься все!.. – пробормотал он, немножко смутившись, и сам улыбнулся. – А что смеешься? Может, все-таки что-нибудь помогать надо!
– Нет, сынок, – ответила мать, – ничего не надо. Отец сказал, чтобы ты отдохнул немножко… Ведь тебе уезжать скоро. Может, подготовиться нужно. А в колхозе главные дела сделаны. Теперь и без тебя управятся.
Костя уловил легкую грусть в голосе матери. Та же грусть при мысли об отъезде слегка сжала и его сердце. Так уж устроен человек: всякий отъезд, даже и желанный, заставляет с сожалением оглянуться на то, что оставляешь…
– Полежи еще, сынок, – сказала мать, – подремли до завтрака. А после завтрака в баню сходишь.
Костя снова улегся на постель, с наслаждением потянулся и только сейчас почувствовал, как он устал за эти дни. Теплая дремота начала охватывать тело. Но вдруг радостная мысль огнем ударила в сердце.
– Матушка, – спросил он, широко раскрыв глаза, – какое число сегодня?
– Двадцать пятое, сынок. Август кончается.
Костя опять вскочил. И уже никакой дремоты не было.
– Матушка, да ведь скоро Яжнай приедет! Может, завтра… А может, нынче.
– Да, – улыбнулась мать, – я их каждый день поджидаю… – И добавила, потихоньку вздохнув: – Хорошо, хоть Чечек со мной останется! Я вот посмотрю как, а то, может, к себе ее возьму на зиму…
К полудню, когда дождь перемежился, Костя накинул армяк и вышел из дому. Небо чуть-чуть посветлело, но дождевая пыль тепло серебрилась в воздухе.
– Костя, куда? – крикнула с той стороны улицы Ольга Наева. Она с непокрытой головой и в галошах на босу ногу кормила кур около своего крыльца.
– В сад пойду, – ответил Костя. – Давно не был. Пойдем?
Ольга отмахнулась:
– Ну что ты, там теперь из грязи не вылезешь! Да и ты не ходи. Пусть обдует немножко.
– Нет, я пойду, – сказал Костя.
И он торопливо, скользя по мокрой и грязной тропочке, зашагал дальше.
Вот и Гремучий. Вот и школа на горе, смотрит из-за старых черемух и кленов своими большими белыми окнами. И огромная Чейнеш-Кая, словно бисерной дымкой задернутая дождем… А вон там, подальше, невысокая нежная зелень, такая светлая, такая радостная… Яблоньки!
Костя быстро взбежал по деревянной лесенке, потом по другой лесенке… Раньше, когда Костя учился в пятом классе, лесенок не было. Ребята просто карабкались к школе на крутой увал, скользили и падали на грязных тропочках. Устанут, бывало, пока доберутся до школы. А теперь на увале цветут клумбы, зеленеют газоны, а вместо крутых тропочек устроены деревянные ступеньки с белыми перильцами.
На тихом школьном дворе бродили учительские куры. Окна домика Марфы Петровны, заполненные красными геранями, были открыты настежь. Может, зайти?
За палисадником директорского домика послышался голос Анатолия Яковлевича. Может, сбегать к нему повидаться?
«Потом!» – решил Костя и повернул в сад.
Вошел и остановился.
Вот они стоят, тоненькие, маленькие деревца с мокрыми, блестящими листочками, стоят ровными сквозными рядками, ухоженные, береженые. Вот они, прижились, окрепли. Теперь они начнут расти, подниматься, раскидывать ветки все выше, все гуще…
И Костя уже не видел этих маленьких, хрупких саженцев, которые робко зеленели над грядками, – нет, перед ним розовел цветущий сад, он, как розовое облако, поднимался над изгородью и заслонял лиловые уступы Чейнеш-Кая.
В первые дни в Кологоше, когда он кормил кроликов, ему иногда казалось, что это тоже работа. А что ж? Можно богатое кроличье хозяйство развести – и мясо и шкурки… Потом, когда он работал на жнейке, приходило в голову, что машина – тоже вещь интересная. Если быть механиком, много работы найдется механику в колхозе. Но теперь, когда он снова увидел эти нежные деревца с той красотой и радостью, которая таится в них, то понял, что только здесь его настоящая привязанность, его настоящая любовь.
Костя медленно шел вдоль рядков. Он заметил на одном деревце надломленную ветром ветку. Недолго думая он оторвал от носового платка полоску и подвязал ветку. На душе было так хорошо, так полно! И Косте вдруг захотелось, чтобы хоть кто-нибудь из ребят-садоводов заглянул сейчас в сад и разделил его радость.
Но многих ребят-садоводов еще не было: они не вернулись с каникул. А те, которые были здесь, сидели по домам. Кому же охота ходить по саду, когда дождь висит над землей!
И вдруг откуда-то из-за изгороди раздался звонкий голос:
– Кенскин, Кенскин! Э! Здравствуй! Как дела?
– Чечек! – сразу обернувшись, крикнул Костя. И тут же увидел ее.
Чечек стояла по ту сторону изгороди и, раздвинув мокрые кусты шиповника, смеясь, глядела на него – черноглазая и румяная, со своей малиновой кисточкой на шапочке.
Костя, перепрыгивая через грядки, подбежал к изгороди:
– Приехали? А Яжнай где?
– Яжнай – вон, на дороге стоит. Говорит: «Что сразу сад смотреть? Можно и потом». А я думаю: нет! Почему потом? Может, тут мои яблоньки расцвели! Почему это – потом?.. Ну вот он и стоит на дороге, а я прибежала садик посмотреть. А тут и ты… Здравствуй, Кенскин, здравствуй!
В черных глазах Чечек даже слезинки забегали от радости.
– Здравствуй! Только не кричи так, – сдержанно сказал Костя, хотя все лицо его улыбалось и глаза светились. – Ну, что я, глухой?